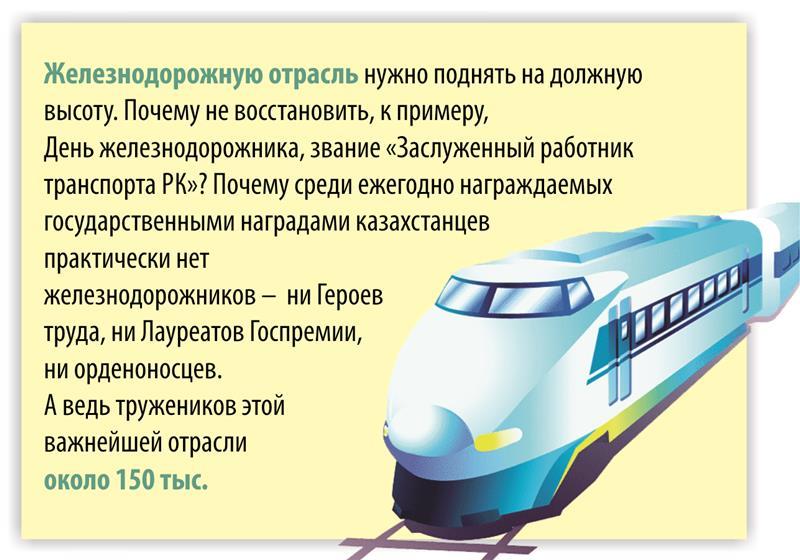Аби Саркыншаков, заслуженный работник транспорта Казахской ССР, почетный железнодорожник СССР, член консультативных советов АО «НК «КТЖ»
и Павлодарской областной прокуратуры
Железной дороге посвящена вся моя жизнь – более 65 лет трудового стажа.
Стараюсь служить ей по мере сил и сегодня в качестве члена Консультативного совета АО «НК «Қазақстан темiр жолы». Эти строки – плод многолетних размышлений о том, какие шаги надо предпринять, чтобы стратегическая отрасль экономики заняла подобающее место.
Почему ходим в пасынках?
Есть цифры, которые способны поразить кого угодно. Например, многим ли в Казахстане известно, что дебиторская задолженность национальной компании «Қазақстан темiр жолы» достигла астрономической суммы в 2 трлн тенге?!
В чем дело? Неужели железнодорожники виноваты? Но ведь к ним нет никаких особых претензий: отрасль работает без каких бы то ни было сбоев, предъявляемые к перевозке грузы доставляются вовремя и по назначению. Реализованы крупнейшие в СНГ проекты строительства новых современных железнодорожных линий, в том числе самая первая в условиях суверенитета – Аксу – Дегелен. Электрифицирован участок Павлодар – Экибастуз. Построен новый современный железнодорожный вокзал в столице...
За годы независимости в республике построено более 2,5 тыс. километров новых железнодорожных линий. Это больше, чем их было введено в странах СНГ вместе взятых. И перечень сделанного можно продолжать.
Почему же тогда железнодорожная отрасль – безусловно, стратегическая, а также крупнейший налогоплательщик республики – оказалась в столь критическом финансово-экономическом положении? Причин много.
Проблемы копились годами и десятилетиями, вовремя не решались как на правительственном, так и на законодательном уровнях. На мой взгляд, одна из главных причин бедственного положения АО «НК «КТЖ» и отрасли в целом кроется в том, что долгожданный Закон «О железнодорожном транспорте», принятый 8 декабря 2001 года, очень несовершенен и не защищает интересы железнодорожного транспорта, который нуждается в помощи и поддержке на всех уровнях.
Закон этот публично не обсуждался, проект его не был опубликован даже в отраслевой прессе, не участвовали в его подготовке и профессиональные юристы-железнодорожники. В нем масса мелкого и ненужного, зато нет важного и необходимого.
Эти проблемы я поднимаю вот уже почти 30 лет, начиная с 1991 года, но многие из них не решены до сих пор. Да и как они могут быть решены, если за 30 лет в Мажилис и Сенат не был избран ни один профессиональный железнодорожник, и в Парламенте ни разу не были рассмотрены проблемы развития отрасли. Вносимые в закон поправки (их уже более двадцати) на общее положение дел не влияют.
Говорил не раз и еще раз повторю: нам нужен новый Закон «О железнодорожном транспорте», без которого кардинально ситуацию не изменить.
Посмотрим на наших соседей в Узбекистане. Протяженность железных дорог составляет у них всего 4 300 километров, или в четыре с лишним раза меньше, чем у АО «НК «КТЖ». По объему перевозимых грузов Среднеазиатская железная дорога занимала в советские времена 15-е место среди 32 железных дорог СССР, а сейчас она, уже как узбекская, опустилась в третью десятку, то есть значительно уменьшила объемы перевозок.
В Узбекистане первый заместитель премьер-министра – профессиональный железнодорожник, выпускник Ташкентского института инженеров железнодорожного транспорта – одновременно является министром транспорта. Другие выпускники этого вуза занимают посты министра экономики и промышленности, главы казначейства, ведущие должности в железнодорожной отрасли. Может, потому и проблем у них особых нет?
Соседняя Россия по протяженности железных дорог (89 тыс. километров) и по объему перевозок занимает третье место в мире. У них есть министр транспорта и президент АО «РЖД», который занимается только вопросами железнодорожного транспорта. АО «РЖД» ежегодно получает до 500 и более миллиардов рублей инвестиций. И они тратят эти деньги не только на содержание и обновление основных фондов, но и на замену ручного труда, применяя малую механизацию, автоматизацию, компьютерную цифровизацию, то есть на самое главное – совершенствование перевозочного процесса.
На железнодорожном транспорте у них сегодня высокая производительность труда. Благодаря этому они сократили за 30 лет штат работников почти на 500 тыс. человек. Всего штат РЖД составляет сегодня 700 тыс. человек без учета сферы обслуживания, а средняя зарплата равняется более чем 60 тыс. рублей и каждый год увеличивается, превышая среднюю зарплату по России.
Это в разы больше, чем у наших железнодорожников, хотя Казахстан входит в первую тройку среди стран СНГ и Балтии по объемам перевозок. Отсюда и высокая текучесть кадров у нас, их нехватка на всех уровнях, включая инженерные. Скажу больше: сегодня экономическое и финансовое положение национальной компании и всей отрасли критическое, и без поддержки руководства страны трудно будет преодолеть создавшуюся ситуацию.

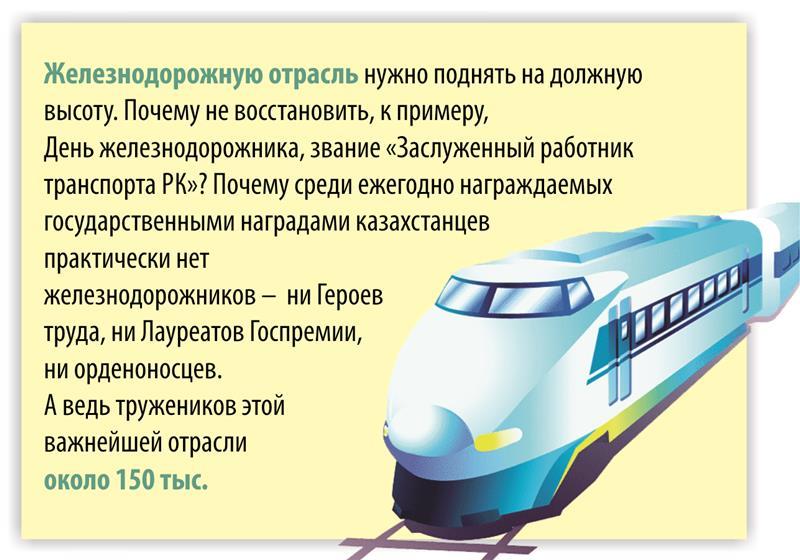 Необходимо профильное министерство
Необходимо профильное министерство
С сожалением приходится констатировать, что мы уже отстаем от РЖД по совершенствованию технологий на 15–20 лет. Располагая мощным железнодорожным (да и прочим) транспортным хозяйством, мы единственные в СНГ не имеем собственного министерства. Я говорю об этом еще и потому, что разработка Закона «О железнодорожном транспорте», отвечающего интересам отрасли и требованиям времени, – дело уполномоченного органа, а у нас министерство упразднили, а до этого министры работали по 15–18 месяцев, они только-только успевали входить в курс дела.
Потом их функции передали Министерству инвестиций и инфраструктурного развития, которое не охватывает в комплексе работу железной дороги. В этом министерстве, кстати, нет ни одного профессионального железнодорожника. Как и в Мажилисе и Сенате, где нет и постоянного комитета по транспорту.
Тем временем председатель правления АО «НК «КТЖ», по сути, выполняет функции четырех министров Казахской ССР. Поэтому наше министерство, безусловно, нужно восстановить (без функций системы коммуникации). И сделать это возможно без выделения дополнительных бюджетных средств – за счет оптимизации структур КТЖ, авиационного, речного, автомобильного транспорта.
Министерство должно быть компактным, заниматься решением стратегических задач, включая внешнюю политику отрасли, и самое главное – законотворчеством.
Уголь, вагоны, металлолом
Теперь о некоторых других очень важных вопросах, которые также нельзя упускать из поля зрения. На железных дорогах России объем перевозок растет, как показывает анализ, в основном за счет угля. Но если в советское время российские электростанции получали 50–52% экибастузского угля с зольностью до 43% (многие под него были и спроектированы), то сегодня экспорт этого нашего угля в РФ сократился до 30% и ниже.
То есть на российские электростанции в больших объемах идет уголь Кузбасса, который, видимо, «разбавляют» экибастузским. В будущем может случиться так, что перед экибастузским углем могут вообще закрыть шлагбаум. Это надо иметь в виду и вести соответствующие переговоры о поставках угля и на высшем государственном уровне.
Срочной замены требует тысяча старых изношенных пассажирских вагонов, необходимо также ускоренно обновлять парк грузовых вагонов, отслуживших все нормативные сроки. Нужно вернуть в железнодорожное ведомство ремонтные базы.
Еще один вопрос, о котором уже не раз говорил. Казахстан ежегодно экспортирует до двух миллионов тонн металлолома. И в то же время КТЖ ежегодно тратит на несложные импортные запчасти, оборудование и т. д. многие миллиарды тенге. Мы даже китайские «одноразовые» лопаты для отрасли импортируем втридорога.
Законом запрещено железной дороге заниматься коммерческой деятельностью. Хотя многое могли бы изготавливать сами, перерабатывая тот же металлолом.
Я неоднократно обращался в самые высокие инстанции с предложением прекратить неконтролируемый экспорт металлолома и наладить его переработку в стране, что позволило бы сэкономить сотни миллиардов тенге. К слову, есть опыт нашей Павлодарской области, предприятия которой имеют самое большое в стране количество договоров с КТЖ на производство нужной железнодорожникам продукции на многие миллиарды тенге. Тут и у нашего региона, и всей республики еще необозримое поле деятельности.
Есть также настоятельная необходимость принять правительственную программу развития железнодорожной отрасли, хотя бы на ближайшие пять лет.
Кадры для отрасли
Вопрос вопросов – подготовка квалифицированных кадров для железнодорожной отрасли. Опять обратимся к цифрам: в 1980 году население Казахстана составляло 14,9 млн человек, в республике действовало 56 вузов и 250 средних технических учебных заведений. Сегодня нас более 19 млн человек, и мы имеем более 130 одних только вузов.
Часть из них Глава государства назвал вузами-пустышками, созданными для печатания университетских и институтских дипломов. К сожалению, это горькая правда. Не потому ли работодатели не очень-то охотно берут на работу выпускников таких «вузов», даже имеющих нередко несколько «вузовских» дипломов?
Не исключение и АО «НК «КТЖ», испытывающее острый дефицит профессиональных кадров железнодорожников. В СССР насчитывалось 4,5 млн железнодорожников. Инженеров для этой отрасли готовили всего 14 институтов, в том числе и уже упоминаемый мною ТашИИТ – Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта, готовивший кадры для республик Средней Азии и Казахстана.
Его, кстати сказать, закончил и я 65 лет назад, получив распределение на только что созданное в 1954 году Павлодарское отделение Казахской железной дороги, став первым специалистом с высшим образованием коренной национальности на станции Павлодар. Распределяло выпускников таких вузов, замечу, только Министерство путей сообщения СССР – таков был их авторитет.
Показательно, что ТашИИТ (ранее САЗИИТ) не менял своей вывески, как и многие другие вузы Узбекистана. Он занимает среди них по рейтингу девятое место, а среди технических вузов – третье. И 98,7% его выпускников трудоустроены.
Количество вузов, повторю, осталось в Узбекистане прежним, хотя население с 1980 года выросло более чем вдвое – с 16 млн до 34 млн, за счет естественного прироста. У нас в республике 130 тыс. молодых людей обучаются за рубежом, в том числе более 70 тыс. в России. Совершенно прав наш Президент, заявивший о необходимости открыть филиалы зарубежных вузов в республике и учить казахстанцев преимущественно техническим специальностям.
Вспоминаю 80-е годы прошлого века. Бурно развивалась Павлодарская область, которую по праву называли большой строительной площадкой. Строились угольные разрезы, электрические станции, заводы. На подъеме была и железнодорожная отрасль. И практически ни одна отрасль экономики не испытывала недостатка профессиональных кадров. Наоборот, регион делегировал хорошо подготовленных специалистов и управленцев в другие регионы и республиканские структуры.
А Павлодарский железнодорожный техникум, воспитавший сотни и сотни будущих железнодорожников, вполне мог претендовать при его дальнейшем развитии и поддержке даже на статус вуза. Но и он потерял свое прежнее значение. А единственный в Казахстане институт инженеров железнодорожного транспорта и вовсе лишился лицензии – до такого его состояния довели. Может быть, один из филиалов российских вузов в Казахстане сделать профильным – железнодорожным?
Всю жизнь, вот уже более 65 лет, я работаю на Павлодарском отделении железной дороги. За эти годы оно стало крупнейшим не только в Казахстане, но и в СНГ.
Сегодня каждая третья тонна грузов, отправляемых по железной дороге в стране, уходит с нашего отделения. В предыдущие годы на отделении был создан такой запас технической прочности, что в ХХI веке уже не нужно было ничего строить. И сегодня отделение способно справиться с возрастающим объемом перевозок. То есть мы во многом делаем погоду в отрасли, и проблемы, о которых я пишу, имеют для отделения и для нашего региона особое значение.
Когда-то наше отделение считалось кузницей кадров. При нашем участии создавался и получил мощное развитие Павлодарский железнодорожный техникум, существовало железнодорожное училище, одиннадцать наших школ и 27 детских садов. Были созданы две высокооснащенные детские железные дороги – в Павлодаре и Экибастузе (в Казахстане их было всего семь, а в России – 23), с которых многие школьники начинали свой путь на большую железную дорогу. Теперь эти и другие подобные объекты ушли в прошлое.
Железнодорожная отрасль для Казахстана имеет особое – стратегическое – значение. И для того, чтобы она обрела подобающее ей место, получила устойчивое развитие и впредь оставалась локомотивом экономики, нам нужно поднять ее на должную высоту. Почему не восстановить, к примеру, День железнодорожника, звание «Заслуженный работник транспорта РК»?
Почему среди ежегодно награждаемых государственными наградами казахстанцев практически нет железнодорожников – ни Героев труда, ни Лауреатов Госпремии, ни орденоносцев. А ведь тружеников этой важнейшей отрасли около 150 тыс. Это на заметку руководству региона, членам Правительства, депутатам Парламента.