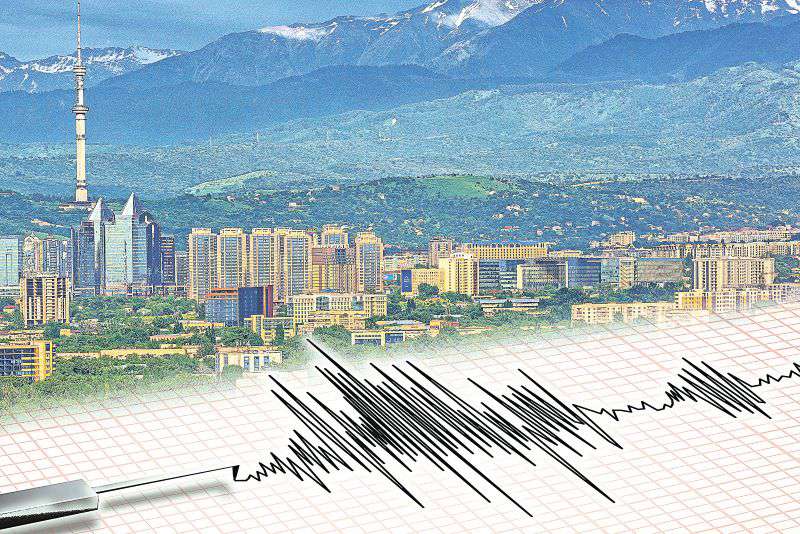Принять, адаптироваться и научиться правильно реагировать
12577
Беседовала Людмила Макаренко
Как сейсмологическая отрасль стала «чемоданом без ручки» и что сделано для решения ее проблем,
рассказывает директор Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Даулет Сарсенбаев