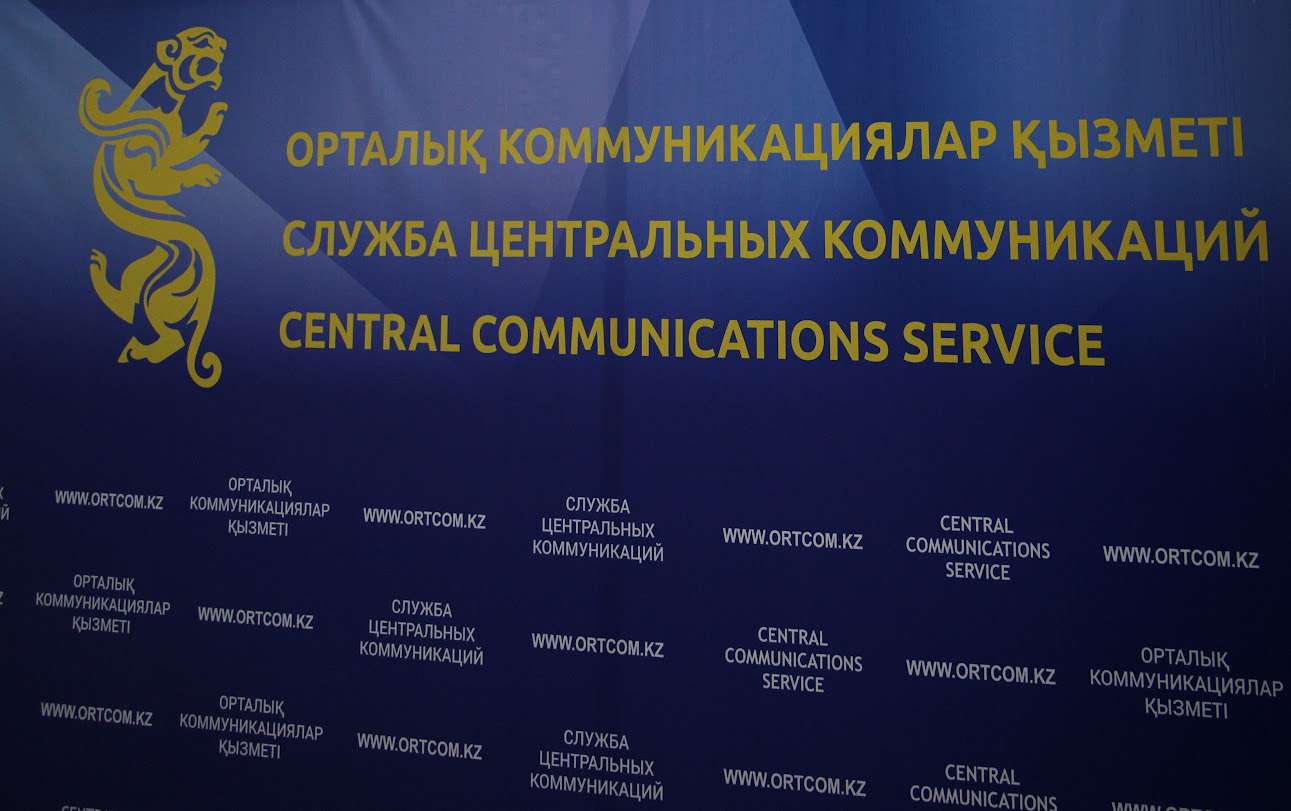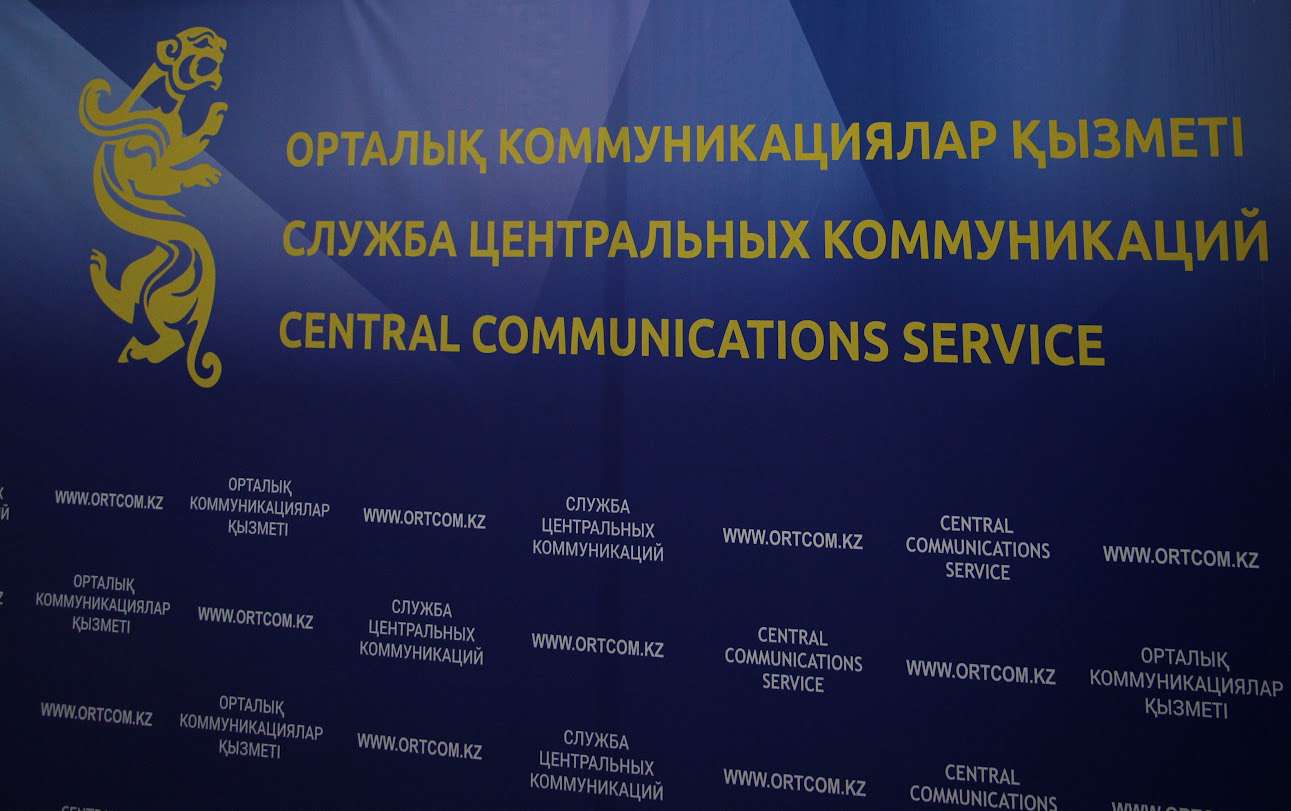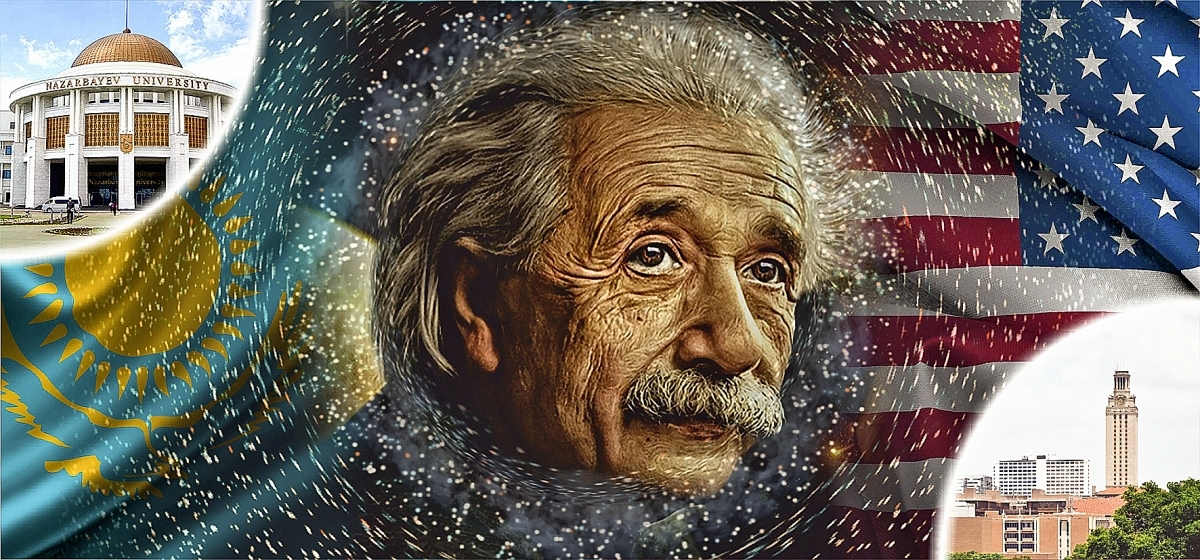
О содержании этой работы мы поговорили с руководителем лаборатории оптики и нанофотоники Техасского университета Рио-Гранде Валелей, профессором, обладателем премий Breakthrough Prize и Грубера за открытие гравитационных волн, доктором Маликом РАХМАНОВЫМ.
– Малик Адилевич, позвольте поприветствовать вас как известного американского ученого и нашего соотечественника, причастного к громкому открытию века – гравитационных волн.
– Спасибо.
– Касаясь для начала менее высоких материй, но принципиально важных здесь и сейчас, хотелось бы услышать ваше мнение о перспективах сотрудничества отечественных вузов с Рио-Гранде Валелей.
– В этом плане важно подчеркнуть, что крупнейший американский научно-образовательный центр занимается именно целенаправленной подготовкой свежих кадров для науки. Поэтому для Техасского университета характерна большая коллаборация или практика активного взаимодействия с научными кадрами других стран в накоплении и передаче знаний. И я очень рад тому, что сегодня у нас выстроены оптимальные мосты сотрудничества с ЕНУ имени Льва Гумилева и другими вузами республики.
В результате Казахстан получит ценные кадры в таких новейших сегментах науки и практики, как астроинформатика, биоинформатика, нанофотоника и других.
Это очень важно, если учесть, что Казахстан стремится развить свой потенциал в области аэрокосмической индустрии, космической навигации и зондирования, в том числе научных исследований в сфере геологии и климата. Например, сегодня специалисты астроинформатики могут обрабатывать данные до 19-й степени точности. Такие вычисления можно сделать только на современных суперкомпьютерах. Во многих вузах Казахстана они имеются. Но для всестороннего владения инструментами обработки объемных данных, проведения экспериментальных вычислений и обработки данных для доказательства конкретных научных теорий нужно учиться у мировых научных центров, где имеется обширная технологическая база и соответствующие кадры для передачи знаний и практических навыков. В этом плане Техасский университет может во многом быть полезен Казахстану.
– Но если специалисты в области астроинформатики легко могут найти себе применение в тех же обсерваториях США, Канады, Бразилии, то не рискуют ли в Казахстане они оказаться не у дел или пополнить ряды административного персонала? С учетом этого насколько программа магистратуры отвечает потребностям казахстанских реалий?
– Что касается группы студентов из ЕНУ по специализации IT, которых мы обучаем в Техасе, то их подготовка ведется в точном соответствии с конкретными потребностями текущей и предстоящей казахстанской практики.
Безусловно, если не акцентировать внимание на космосе, то и на Земле найдется немало сфер, где требуются высокоточные расчеты по обработке больших данных, получаемых, например, в результате зондирования климата, экологии окружающей среды, сейсмического и другого состояния земных недр и земной атмосферы. При этом следует учесть, что для полноценного анализа все равно придется обрабатывать информацию, идущую из космоса в виде шумов, световых и звуковых импульсов и прочего. Мне, как непосредственному руководителю группы, интересно наблюдать за профессиональным ростом своих соотечественников, и отрадно, когда кто-то из них проявляет незаурядные способности в усвоении программы.
– Есть ли среди ваших студентов из числа казахстанцев такие одаренные?
– Мне бы не хотелось выделять кого-либо в ходе процесса подготовки. Но все магистранты и бакалавры, прежде чем попасть к нам, прошли тщательный отбор при участии специалистов Назарбаев Университета. В частности, это магистранты Дархан Туенбаев и Жомарт Рамазанов, а также бакалавры Алиамир Алдан и Саджан Сейтмухамбетов. В целом ребята из казахстанской группы ЕНУ демонстрируют неплохие знания.
– Как вы думаете, насколько способствуют цифровые технологии научным открытиям?
– Мы помним, что в прежней системе образования на постсоветском пространстве упор в основном делался на фундаментальные знания, а сейчас в силу влияния рынка акценты образования больше направлены в сторону прикладной тематики, связанной с узкой профессиональной спецификой. Поэтому нынешние студенты, усваивающие знания в одной какой-то области, не всегда могут знать произведения Толстого или Шекспира, в то время как тонкости своей специфики, в том числе компьютерного моделирования, изучают основательно.
Между тем благодаря именно цифровым моделям «черных дыр» произошел прорыв в области исследования гравитационных волн. Примечательно, что практика государственного финансирования в Америке не боится рискованных экспериментальных проектов в расчете на то, что одно научное открытие – это потенциально вероятный шаг к большому экономическому успеху.
– Открытие гравитационных волн – это результат подобного подхода к делу?
– Безусловно. Например, университет Техаса отличается от других научных центров тем, что в нем сосредоточен основной потенциал специалистов в области исследования гравитационных волн. А эта область исследования, в которой с тех пор, как ее обозначил Альберт Эйнштейн в качестве преамбулы физической науки, ничего существенного не происходило, кроме научных поисков, которые в целом предопределили положительный исход событий. При этом отмечу такой факт, что чем сильнее университет и чем он престижнее и знаменитее, тем меньше он интересовался исследованиями в этой области.
– То есть четвертой силой природы?
– Совершенно верно. Для многих это направление казалось подобием рытья колодца иголкой, причем не зная, будет там вода или нет. Поэтому только долгосрочное финансирование колоссальной работы в этом направлении позволило в конечном итоге довести дело до логического конца. К моменту моего прихода в исследовательскую группу Техасского университета формирование коллектива в целом завершалось. Мне было сделано хорошее предложение – создать там лабораторию оптики и нанофотоники. Таким образом, когда тема гравитационных волн начала актуализироваться, то наш университет оказался в эпицентре всех событий и ядром этого процесса. С моей точки зрения, это правильно и справедливо, ибо наш научный коллектив не гонялся за краткосрочными успехами, а целенаправленно работал над теорией, оставаясь до определенного момента на периферии событий. И пришел час, когда передний край науки захватил эту область, где уже имелись конкретные наработки, и все было готово к прорыву.
– Скажите, пожалуйста, в какой области принципы четвертой силы могут найти свое практическое применение, кроме, разумеется, ВПК?
– Хороший вопрос. На сегодня мы большую часть информации из космоса получаем в электромагнитном спектре. В визуальном диапазоне – это то, что нам позволяют видеть телескопы. Кроме того, наши возможности в изучении космоса увеличиваются благодаря радарной физике, рентгеновским лучам и принципам гамма-излучений. Но всех их объединяет то, что эти излучения порождаются активно излучением атомов. То есть любой свет, который мы наблюдаем, является следствием переходных процессов, связанных с заряженными частицами. По сути, все это из области физики электромагнетизма. И в этом смысле объекты, которые не излучают свет, например, «черные дыры» остаются невидимыми для нас, хотя внимание ученых к ним огромное. В этой ситуации на помощь ученым могут прийти именно гравитационные волны, которые позволяют увидеть эту темную часть Вселенной и определить фундаментальные процессы, связанные с ними.
– С темной материей тоже они помогут разобраться?
– Да, в перспективном перечне загадочных объектов Вселенной, тайну которых в недалеком будущем можно приоткрыть за счет гравитационных волн, есть и темная материя.
– Сегодня в стане скептиков нередко можно услышать мнения об огромном разрыве между отечественной наукой и зарубежной наукой. А что вы сказали бы по этому поводу, будучи американским ученым?
– На мой взгляд, все то, что я наблюдаю в стране во время своих кратких приездов, позволяет говорить о том, что этот разрыв сегодня сокращается. Лаборатории многих вузов, где я успел побывать, к приятному удивлению, достаточно хорошо оснащены техникой, установленной явно с большим знанием дела. Например, вчера в одной лаборатории я наблюдал терагерцовую электронику, сегодня – множество электронных стендов и макетов для обучения. Ситуация в этом плане здесь неплохая. Я уже не говорю про специализированные научные центры, где очень дорогое оборудование. Например, здесь, в ЕНУ, имеется суперкомпьютер. Но в науке дело не всегда зависит от технологического оснащения или уровня финансирования, поскольку человеческий фактор никто не отменял.
– Какая перспектива ожидает тех, кто сегодня овладевает глубокими знаниями в области астроинформатики? Не окажутся ли они в будущем на рынке труда в менее завидном положении по сравнению с другими специалистами?
– Я уверен, что люди, которые сильны в алгоритмах программирования, они как сегодня, так и завтра быстро найдут свое место в жизни. В этом смысле я бы больше беспокоился о физиках, нежели «о лириках программирования». Конечно, сфера IT в Казахстане еще не успела сформироваться в определенную отрасль и пока существует в виде информационной поддержки тех или иных секторов экономики. Тем не менее огромный потенциал для развития IT-отрасли имеется в сфере малого и среднего бизнеса. Необходимо шире практиковать стимулирование стартап-проектов МСБ, с которых, по сути, начинаются большие отрасли и компании.