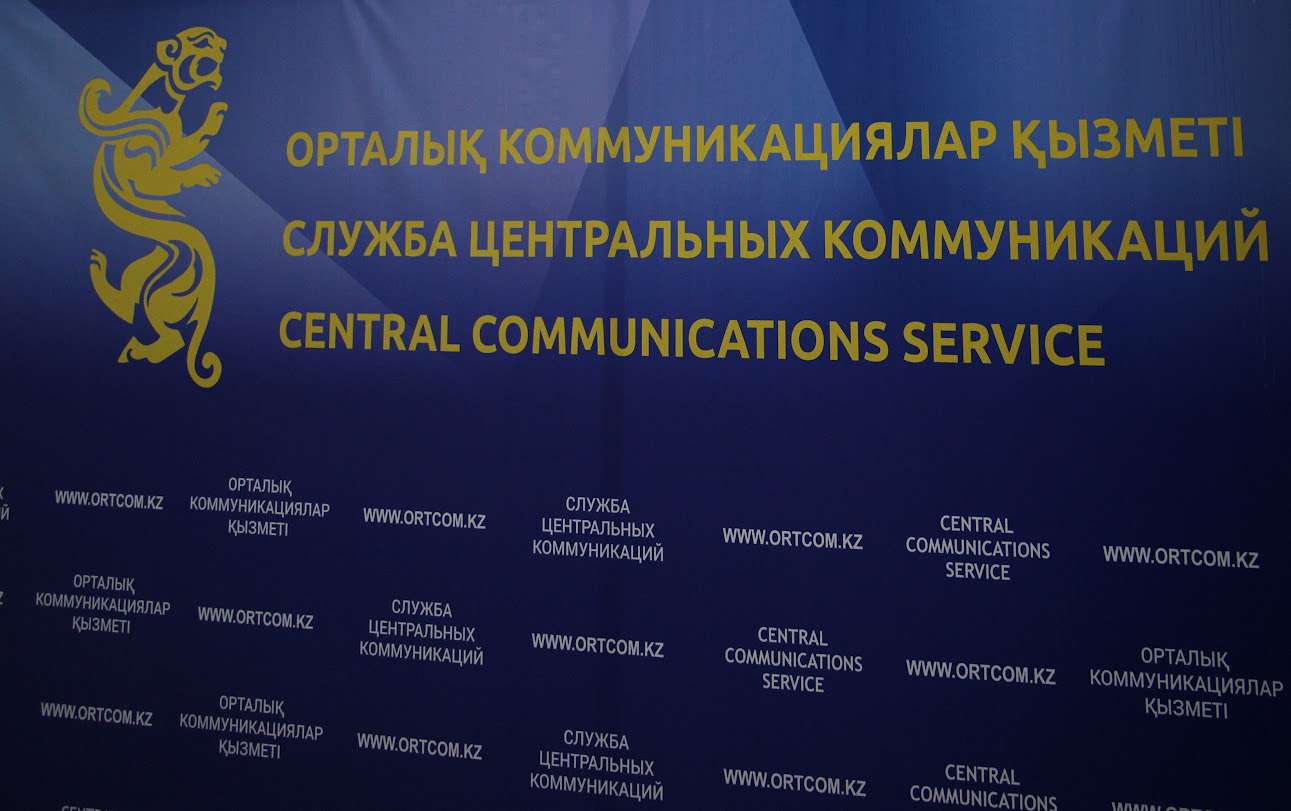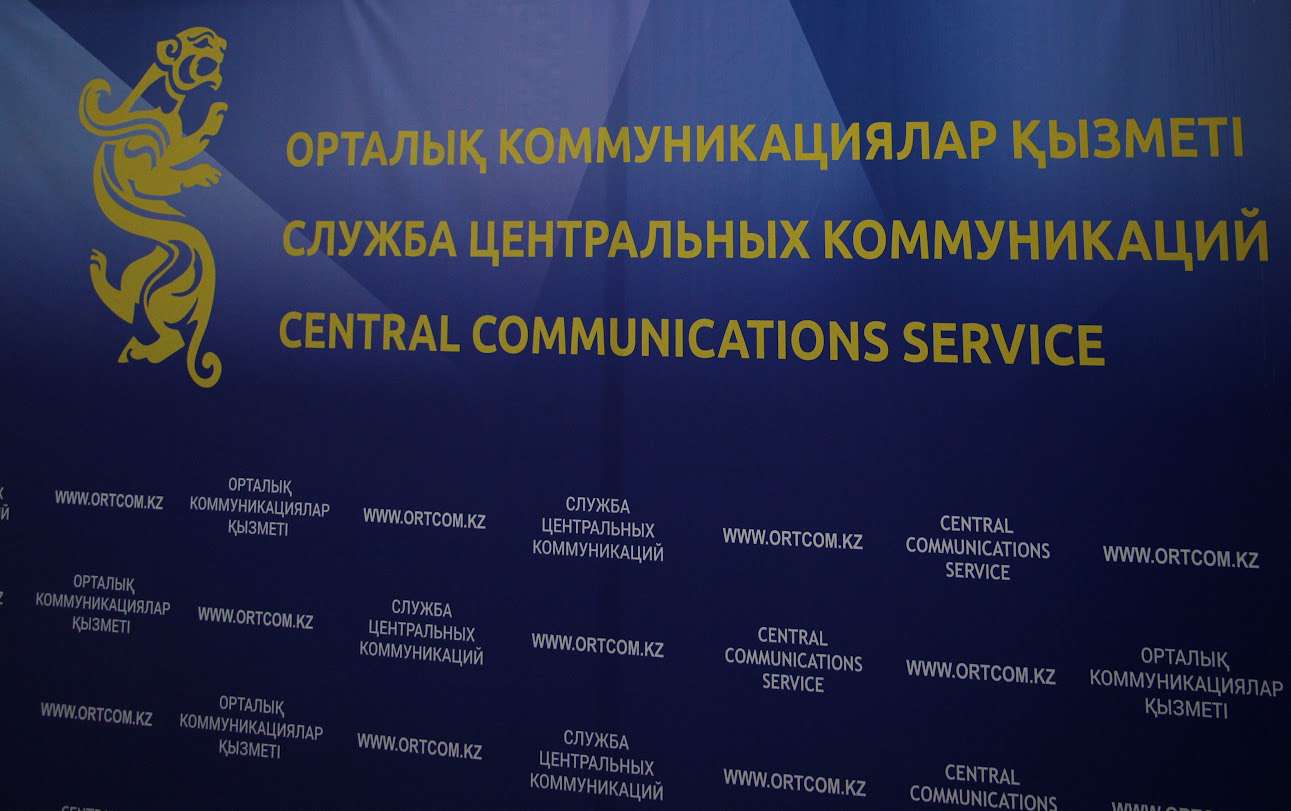В последние годы вопросы прекаризации в сфере труда активно исследуются зарубежными учеными. Проблемы неустойчивости занятости, социальной неуверенности и экономического неравенства появились в мире не вчера. Они зародились давно, но к 80-м годам XX столетия проявили себя настолько мощно, что вызвали заметную озабоченность общества. Социально-экономический и политический дискурс исследований занятости в последние годы показывает усиление рисков и последствий экономических преобразований XX–XXI веков.
Двойная задача
Прекаризация занятости – весьма распространенное социальное явление, порождающее неопределенность и нестабильность в обществе. Ставшая важной характеристикой современного развития и присущая многим странам, прекаризация занятости несет в себе опасности разрушения человеческих ресурсов от роста безработицы. Она также имеет существенные культурные и политические последствия, усиливая социальную нестабильность в обществе в целом.
Результатом прекаризации занятости становится формирование целого, но пока внутренне разрозненного социального класса – прекариата. (Термин «прекариат» впервые был предложен П. Бурдье и по аналогии с пролетариатом, обозначает класс, представители которого не имеют стабильной и постоянной работы, стабильного заработка и социальных гарантий, обеспеченных работодателем и государством.) Учитывая, что между представителями прекариата существует множество различий, этот социальный слой не является в полном смысле классом, который может продвигать свои групповые интересы перед другими классами. В силу этого вызовы прекаризации не всегда воспринимаются на уровне политики как реальный экономический вызов современности. Основные формы прекаризации занятости: неполная занятость, неформальная занятость, временная занятость, дистанционная занятость, самозанятость, работа в личном подсобном хозяйстве, а также безработица как высшая степень неустойчивости занятости.

В настоящее время это явление охватило практически все страны мира, в том числе и экономически развитые. По оценкам экспертов, в странах – членах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) неустойчивости подвержены от 15 до 25% работающих. Всего в мире десятки миллионов людей работают на рабочих местах, находящихся вне сектора постоянной занятости. Среди них немало людей, имеющих высшее образование, которое не является в нынешних экономических условиях гарантией стабильного социального положения.
По данным нового доклада Международной организации труда (МОТ), в 2017 году ожидается умеренный рост уровня глобальной безработицы – с 5,7 до 5,8%, что означает рост числа безработных на 3,4 млн человек. По прогнозам число безработных в мире в 2017 г. будет составлять чуть более 201 млн человек, к которым в 2018 г. должны прибавиться 2,7 млн человек. Это «связано с тем, что численность рабочей силы растет быстрее, чем создаются новые рабочие места», говорится в докладе МОТ «Перспективы занятости и социальной защиты в мире: тенденции-2017».
– Перед нами стоит двойная задача: ликвидировать ущерб, причиненный глобальным экономическим и социальным кризисом, и при этом каждый год создавать качественные рабочие места для десятков миллионов новых участников рынка труда, – заявил генеральный директор МОТ Гай Райдер. – Темпы экономического роста по-прежнему не оправдывают ожиданий – рост остается невысоким и недостаточно инклюзивным. Тревожная картина складывается для глобальной экономики и возможности создания достаточного количества рабочих мест, не говоря уже об их качестве. Неизменно высокое распространение незащищенных форм занятости в сочетании с явным отсутствием прогресса в повышении качества рабочих мест, даже в странах, где сводные показатели улучшились, вызывает тревогу. Необходимо обеспечить равномерное и инклюзивное распределение преимуществ, которые приносит экономический рост.
Данные доклада показывают, что в текущем году доля тех, кто трудится на уязвимых рабочих местах, таких как помогающие семейные работники и самозанятые работники, по-прежнему будет составлять более 42% от общей занятости в мире, что эквивалентно 1,4 млрд человек.
Прекаризация порождает системные риски для всей сферы занятости. Существуют различные позиции относительно сущности системного риска. Применительно к проблемам, вызванным неустойчивостью занятости, системные риски означают угрозу для стабильности всей системы социально-трудовых отношений. Потенциально эти системные риски могут приводить к крайне негативным последствиям в экономике и обществе в целом. Понимание прекаризации занятости как системного риска для всей сферы труда и занятости предполагает особые требования к социальной политике.
Для экономической политики важным является понимание того, какие последствия несет прекаризация занятости, как измерить прекаризацию и ограничить ее негативное влияние на экономическое развитие в целом и уровень занятости в частности. Поэтому в центре внимания оказываются другие формирующиеся виды занятости и новые социальные группы, которые идентифицируют как прекариат.
Проблемы измерения
Измерение прекаризации, несмотря на значительную историю исследования этого явления и большое внимание к этой проблеме, представляет большую сложность. Прекаризация как статистическая категория еще не определена. Это связано с многоплановым характером этого явления, которое проявляется в виде нестандартной занятости, неформальной занятости, негарантированной занятости, срочных нетрадиционных трудовых отношениях, гибких механизмов укомплектования персоналом, новых формах занятости и др.
Выделяются четыре аспекта измерения прекаризации занятости: 1) временные аспекты (связанные с непрерывностью работы); 2) организационные аспекты (контроль над работой и ее планированием, условиями работы); 3) экономические аспекты (оплата труда); 4) социальные (степень защиты).
Многомерный характер прекаризованной занятости стал основой того, что Европейская комиссия использовала для изучения различий между странами такие показатели, как квартиль с самым низким доходом; срок работы менее одного года; договор срочного или временного трудового агентства; низкий интеллектуальный уровень труда; низкая степень автономии на работе; неудобное рабочее время; плохая физическая среда на рабочем месте и др.
Существуют и другие подходы, учитывающие многомерный характер проявления прекаризации занятости, которые отражают характеристики разных проявлений прекаризации. В нашем исследовании («Глобальные вызовы и национальные экономики: угрозы, риски и императивы развития») для оценки уровня прекаризации и связанных с ней рисков в рамках темы исследования за основу взяты методологические подходы, предлагаемые Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) для оценки глобальных рисков и Фондом глобальных проблем (Global Challenges Foundation).
Согласно методологии ВЭФ, «глобальный риск» – это неопределенное событие или условие, которое может вызвать значительное негативное воздействие на несколько стран или отраслей промышленности в течение ближайших 10 лет. В данной интерпретации «риск» – явление более явное, которое может иметь место в среднесрочном временном горизонте с определенной долей вероятности. Исходя из этого риски прекаризации для отдельной страны или группы стран можно связывать с условиями, которые приводят к расширению прекаризации в среднесрочном периоде.
Методология Фонда глобальных проблем опирается на классификацию рисков, предложенную Н. Бостромом, который рассматривает экзистенциальный риск. Последний может быть представлен в виде разных качественных категорий рисков на разных уровнях или в разных объемах – персональном, локальном и глобальном, а также по разной степени масштаба последствий. Ряд исследователей рассматривают в качестве глобальных рисков события или процессы, которые нанесли бы серьезный ущерб человечеству в глобальном масштабе. И предлагают оценивать масштабы последствий риска как функцию его объема (численность населения, подверженного риску), интенсивности (насколько сильно население будет затронуто) и вероятности (насколько велика вероятность катастрофы). Катастрофический риск в данной методологии имеет место в том случае, если его последствия связаны с существованием 10% или более общей численности населения.
Проецируя этот подход на уровень страны, можно считать, что вызовы, которые оказывают негативное влияние на существование 10% населения и более, увеличивают риски социальной неустойчивости, иными словами социальной прекаризации. Поскольку речь идет о влиянии прекаризации на развитие общества, то базой для сравнения логично выбрать все население страны.
Смысл такой оценки состоит в том, что, если в состоянии прекаризации находится 10% населения страны и более, то расширяется база, а вместе с ней и риски социальной неустойчивости для страны в целом. (Авторитетные российские ученые для оценки уровня экономической безопасности используют показатели состояния рынка труда, в частности уровень безработицы. Причем пороговые значения уровня безработицы оцениваются от 4 до 8% к численности трудоспособного населения.) Поэтому, думается, что уровень 10% не является завышенным. Таким образом, в ходе исследования нами использованы два подхода к оценке прекаризации: 1) по статусу занятости (на основе оценок МОТ); 2) по уровню защищенности доходов (на основе оценок Всемирного банка – ВБ).
Для измерения прекаризации по статусу занятости нами взяты два статистических показателя: 1) безработные; 2) уязвимая занятость. К категории уязвимой занятости относят самозанятых на индивидуальной основе и неоплачиваемых работников семейных предприятий.
Другим проявлением прекаризации является степень защищенности и гарантированности доходов. ВБ рассчитывается показатель численности работников, которые занимают «оплачиваемые рабочие места» на основе явных (письменных или устных) или неявных трудовых договоров, чья заработная плата не зависит напрямую от доходов подразделения, на которое они работают. Та часть занятых, которые не имеют гарантий дохода, могут быть отнесены к прекаризованным так же, как и безработные.
С учетом изложенного были рассчитаны уровни прекаризации по статусу занятости и по степени гарантированности доходов для различных стран мира в динамике за период 2000–2015 гг. (таблица 1). Сравнительный анализ полученных результатов свидетельствует, что уровень прекаризации по степени гарантированности доходов в большинстве случаев оказывается выше, чем по статусу занятости.
Так, например, в Казахстане уровень безработицы является невысоким. Но другие компоненты рынка труда и занятости требуют особого внимания – это сохраняющийся высокий уровень самозанятости, институты рынка труда, обеспечивающие гарантии и защищенность в сфере занятости, которые усиливают риски социальной нестабильности.
Низкая доля занятости с постоянной заработной платой, гарантированной трудовым договором, свидетельствует об институциональных проблемах в сфере занятости: высоком уровне незащищенности в сфере труда, использовании неформальных отношений в формальном секторе и других ограничений в сфере труда. Этот фактор является наиболее существенным в формировании прекаризации занятости в постсоветских странах. В Азербайджане, Армении, Грузии, Кыргызстане очень высока доля неоплачиваемых работников семейных предприятий – от 10 до 30%, что характерно для стран с низким уровнем доходов.
Если рассмотреть структуру занятого населения по группам стран и отдельным странам, то можно выделить значительные различия (таблица 1).
Первая группа стран с низким уровнем прекаризации – до 10%. В этой группе высока доля наемных работников, высока и доля работодателей – до 4%. Доля самозанятых низка – около 10% в структуре занятого населения. Из постсоветских стран наименее низкий уровень прекаризации отмечается в России и Беларуси, что связано с низким уровнем самозанятых.
В Канаде, Австралии, Великобритании уровень прекаризации по статусу занятости менее 10%, но по гарантированности в сфере оплаты труда уровень прекаризации превысил 10%.
Вторая группа стран – с высоким уровнем безработицы, низким уровнем самозанятости и высоким уровнем гарантированной занятости. В таких странах, как Греция и Испания, в состоянии безработицы пребывает более 11% населения. Вместе с тем в этих странах относительно невысокий уровень самозанятости и достаточно сильны институты рынка труда.
Третья группа стран – с относительно низким уровнем безработицы, но высоким уровнем самозанятости и нестандартной занятости – Бразилия, Мексика, Китай, страны Центральной Азии и Кавказа. Занятость на условиях трудового договора с постоянной заработной платой составляет в Армении 57%, Азербайджане – 32%, Казахстане – 73%, Кыргызстане – 55%.
Самозанятость также имеет сильные различия в странах. Так, например, если в Казахстане, Кыргызстане, Армении большую долю самозанятых составляют самостоятельные работники, работающие на себя и не нанимающие на постоянной основе работников, то в Азербайджане это в основном помогающие (неоплачиваемые) работники семейных предприятий, работающие без вознаграждения на предприятии, управляемом родственным лицом.
Анализ свидетельствует, что в нашей стране основной источник прекаризации – самозанятые. Хотя их доля перманентно сокращается, но остается еще достаточно высокой – около 29%, что несет высокий риск социальной прекаризации. Понятно, что это связано главным образом с влиянием занятости в сельской местности. Более 64% в составе самозанятого населения приходится на жителей сельской местности страны. Причем данный показатель не снижается на протяжении 16 лет. Сельское, лесное и рыбное хозяйство, оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов, транспорт и складирование, строительство формируют 89% самозанятости в стране.
Сопоставительный анализ прекаризации занятости по странам также показал, что, помимо самозанятости, большие проблемы в прекаризации занятости связаны с низким уровнем гарантированных доходов наемных работников.
Качество роста
и цифровизация
Результаты проведенного исследования свидетельствуют, что новое звучание приобретает вопрос выбора инструментов макроэкономической политики. Во-первых, это имеет значение для выбора акцентов в разработке социальной политики в целом и программ достойного труда в частности. Во-вторых, это необходимо для ситуационного анализа и прогнозов перспектив развития национальной экономики. Помимо этого, в современных условиях новое звучание приобретают вопросы экономики благосостояния, социальной справедливости и экономической эффективности, качества «инклюзивного роста», специфических особенностей реализации национальных экономических стратегий и политик. В-третьих, распространение различных форм прекаризации занятости, в частности непостоянной занятости, рост безработицы и неактивности на рынке труда, усугубляет неравенство доходов.
Как мы неоднократно отмечали (см., например, «Казахстанскую правду» от 20 июля 2017 года), если неравенство растет, как это происходит во многих, если не во всех, странах мира, будет возникать все большее расхождение между средним доходом и медианным доходом, то есть индивида, который находится в середине ранжированной совокупности. Такой подход более точно определяет доходность на человека. Во многих случаях данные о валовом внутреннем продукте (ВВП) создают впечатление, что экономика работает намного лучше, чем это ощущает большинство граждан. Так, показатель ВВП на душу населения не может точно характеризовать доходность, так как рассчитывается на «среднего человека», сглаживая дифференциацию доходности по отдельным группам. При интенсивном росте богатства одних групп и снижении доходности других он может расти при обеднении значительной массы населения.
Проблемы экономического роста привлекают все большее внимание как в теоретических, так и в прикладных исследованиях. Большинство из них акцентируют внимание на объяснении количественных параметров роста. Но важны не только и не столько темпы роста. Действительно, в последние десятилетия в развивающихся странах, особенно в Китае, был отмечен поразительный прогресс. Однако имели место случаи застоя и отката назад даже в тех странах, где темпы экономического роста были самыми высокими. Эти серьезные различия и случаи резких поворотов вспять позволяют составить адекватное представление о том, что способствует развитию. Центральное место занимает экономический рост, причем не только его темпы, но и, что очень важно, его качество. Ключевым фактором качества роста является его инклюзивность, то есть более равномерное распределение выгод от экономического роста среди различных групп населения.
Четвертая промышленная революция порождает новые движущие силы качества экономического роста, к числу которых относится цифровизация. Цифровой экономике с высокой информационной и интеллектуальной «емкостью» адекватен новый тип занятости: гибкий, динамичный, эффективный. Это предполагает новое содержание, структуру, виды, формы занятости, повышение качества человеческого капитала, реализацию интеллектуального и творческого потенциала населения в сфере труда.