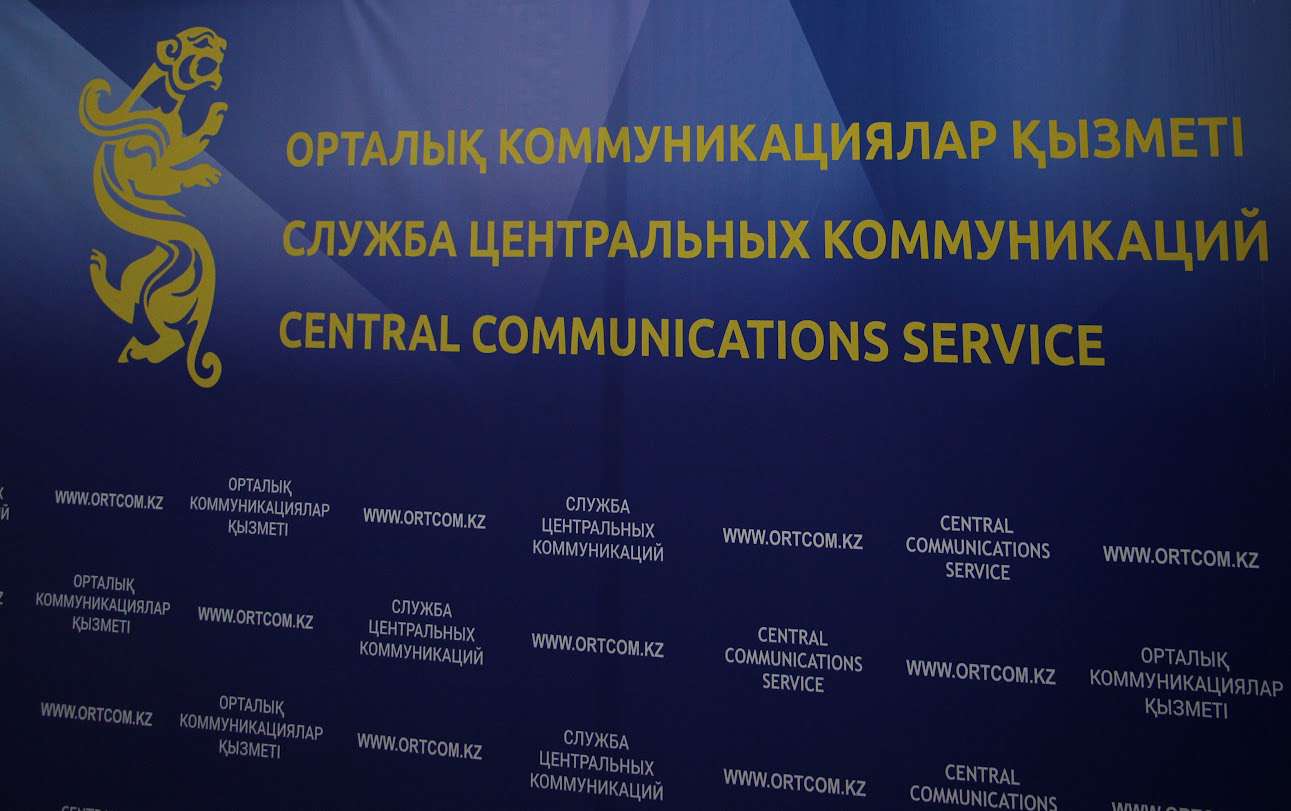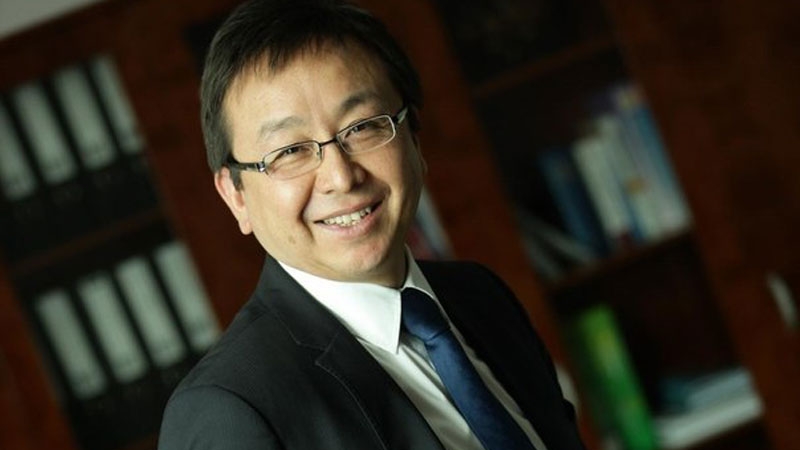
Доктор Шарман – специалист в области биомедицинских и медико-демографических исследований, разработал методологию изучения распространенности ВИЧ-инфекции, позволившую ООН пересмотреть масштабы пандемии, уменьшив статистику по численности ВИЧ-инфицированных людей в мире на 7 млн. Преподавал в американском Университете Джонса Хопкинса. В Казахстане возглавлял Национальный медицинский холдинг. Был одним из руководителей Назарбаев Университета, где создавал интегрированную академическую систему здравоохранения вуза.
Верный диагноз – половина успеха
Нашу беседу доктор начал с интригующей истории:
– В июне прошлого года ко мне пришел очень интересный пациент – истощенный, с огромным скоплением жидкости в животе – то, что мы, медики, называем асцитом. Сделали МРТ и обнаружили… глубокий цирроз печени с тремя очагами рака. Снимки с помощью телемедицины направили в один из ведущих университетов Южной Кореи. Наш диагноз подтвердился.
– Так чем же тот пациент был интересен?..
– Случай сложнейший, запущенная форма гепатита и цирроза, рак – нужна пересадка печени. Как спасать? Родственники немедля выразили готовность везти пациента чартерным рейсом в Америку и, отдав часть печени, стать его донорами. Поразмыслив, я решил созвониться со своим однокашником по Гарварду Чарлзом Розеном – известным хирургом, специализирующимся на пересадке печени в легендарной клинике «Мейо». Он согласился помочь, но на всякий случай спросил: далеко ли Казахстан от Южной Кореи? Узнав, что всего в шести часах лету, посоветовал: везите лучше в Сеул, в университетскую клинику. В год там делают 300 операций по пересадке печени, а он, Розен, – всего 30. Я прислушался к совету: в самом деле, нашему пациенту тяжело было бы выдержать 20 часов лету в Америку. Его успешно доставили в Корею и пересадили здоровую печень. Сегодня он продолжает лечение, и в нем трудно узнать того больного на крайней стадии органического поражения, настолько разительно он посвежел и окреп. Этот случай свидетельствует о том, как важно поставить правильный диагноз и, своевременно выявив болезнь, задать верное направление пациенту, подсказать, как ему двигаться дальше. Благодаря технологиям это и многое другое становится вполне доступным в Казахстане. Одновременно для нас широко открываются двери международного здравоохранения.
– Вы, наверное, не случайно оказались в Америке?
– После окончания аспирантуры в Москве мне предложили работу в Институте иммунологии. После защиты докторской диссертации уехал в Америку. Это был 1991 год, период «утечки мозгов». В США занимался разработкой биомаркеров для медико-демографических исследований, одновременно преподавал в Университете Джонса Хопкинса. К 2001 году, будучи уже гражданином США, объездил около 20 стран Африки, Азии, Европы и затем приехал в Казахстан советником по инфекционным болезням Американского агентства по международному развитию, координируя вопросы борьбы с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом.
В 2008 году стал первым председателем правления АО «Национальный медицинский холдинг» в Астане. С тех пор в клиниках холдинга впервые в сфере здравоохранения Казахстана было внедрено корпоративное управление, а сами клиники получили международную аккредитацию JCI и вошли в состав Назарбаев Университета. Среди технологий, которые были внедрены в клиниках холдинга, следует отметить пересадку сердца, имплантацию искусственного левого желудочка сердца, систему нейронавигации при операциях на головном мозге и многое другое.
– Это правда, что ни СПИДа, ни ВИЧ на самом деле не существует, якобы есть лишь ослабленный болезнями организм?
– Это неверно. СПИД – хроническая болезнь, вызванная конкретным вирусом, называемым вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Другое дело, что сейчас это практически решенная проблема. Нет, полностью СПИД, конечно, не излечивается, но зараженные ВИЧ люди живут десятилетиями благодаря так называемым антиретровирусным лекарствам.
Философия успеха
– Со следующего года в нашей стране вводят всеобщее медицинское страхование. Интересно ваше мнение об этом.
– С переходом на систему медицинского страхования гражданам будет предоставлена возможность выбирать понравившуюся клинику в масштабах страны. Я не идеализирую страховую систему, проблем на первых порах будет много, но она имеет ряд преимуществ по сравнению с бюджетной моделью здравоохранения. Многие считают, что врачи должны лечить без какой-либо материальной заинтересованности. Однако в рыночных условиях подобный альтруизм – это утопия. Когда квалифицированный врач будет получать достойное вознаграждение, тогда и качество лечения улучшится, он будет мотивирован расти профессионально. Это я называю профессиональным альтруизмом.
Что касается образования, то мировые тренды направлены на то, чтобы научить медика добывать знания, необходимые для конкретного случая в реальной ситуации. Это принципиально отличается от существующего подхода, когда пытаются превращать мозги студента-медика в контейнер медицинских знаний, тогда как они сейчас умещаются в обычный смартфон.
Хотелось бы, чтобы и у нас врачи готовились по международным стандартам – на основе принципов доказательной медицины. Вспоминается, как недавно Президент Нурсултан Назарбаев шутя высказался, что «есть три категории врачей: от бога, с богом и не дай бог». Сейчас благодаря Интернету есть возможность общаться со всем миром и открываются большие перспективы для медицинской подготовки по международным стандартам.
Кроме того, семимильными шагами развиваются технологии, и за ними нужно успевать следовать не только врачам, но и немедикам. Нами разработан специальный программный продукт, который позволяет без какой-либо медицинской подготовки выявлять возможные причины тех или иных симптомов болезней. Сейчас совместно с коллегами из США и Польши мы работаем над новой программой, в основе которой – применение технологий искусственного интеллекта для правильной постановки диагнозов.
– Ваш отец, академик Торегельды Шарманов, был в советское время министром здравоохранения. Как он относится к современным трендам?
– В мире о моем отце знают как об организаторе Алма-Атинской международной конференции 1978 года, на которой Всемирная организация здравоохранения впервые провозгласила приоритет профилактики болезней и первичной медико-санитарной помощи. Сейчас, спустя почти 40 лет, во многих странах стали осознавать эту истину и принимать конкретные меры. Вот и американский президент Обама продвигает программу, приоритет которой – профилактическая направленность.
Мой отец всегда интересовался технологиями. В свои 85 лет он свободно обращается с любыми гаджетами: новости узнает только со своего айфона, слушает подкасты и с внуками общается через WhatsАpp и FaceТime. Он читает английские тексты с листа и хочет оставаться конкурентоспособным, иметь возможность контролировать ситуацию, в том числе свое здоровье, и быть свободным в принятии решений. Академик Шарманов умеет эффективно мобилизовать человеческие ресурсы, главным образом за счет жесточайшей самодисциплины, высоких требований к самому себе. Для него мелочей не существует. Это надо видеть, как, продвигая свою идею – технологические продукты из кобыльего молока, он на равных «бодается» с бизнесменами, которые моложе его на полвека. Он лучше их понимает, что будущее Казахстана не в нефти, а именно в таких ноу-хау. Однако даже для него, человека амбициозного и публичного, каждое утро начинается с борьбы за качественное долголетие, возраст не так легко дается.
– Помогали ли вам когда-то связи папы-министра?
– Хотя отец никогда не вел меня по жизни за руку, однако то, что он пользуется большим уважением среди медицинской общественности и интеллигенции, безусловно, сыграло для меня конструктивную роль. Что касается связей вообще, то думаю, что быть знакомым и дружить с умными и успешными людьми исключительно важно для достижения благородных целей. В Америке и других странах это называется networking. Замечу, что это принципиально отличается от понятия «крышевание». Хорошая репутация и меритократия везде и во все времена играли важную роль.
– В чем для вашей семьи заключаются атрибуты успешного человека?
– Уж точно не в наличии роскошного коттеджа или большой машины. Недавно я был в одной стране – там очень много джипов, но при этом она нищая. Все это больше говорит о расслоении общества. Материальное изобилие никогда не было для нашей семьи приоритетом. Самое главное – богатство внутреннего содержания и здоровое окружение. А это, помимо воспитания, приходит с качественным образованием и чистотой среды проживания.
Выздоравливаем от «голландской болезни»
– Как ваша семья переносит мировой кризис?
– Я бы не называл кризис мировым. Экономика многих стран, включая США, переживает устойчивый рост. Любой кризис, как правило, бывает цикличным. Поэтому на него нужно смотреть философски. Люди в такие моменты начинают задумываться о настоящем. В том числе и в сфере бизнеса. Один мой хороший знакомый, известный золотопромышленник, начал, например, активно заниматься овцеводством.
К счастью, у нас наметились зачатки выздоровления от «голландской болезни». То, что мы проходим сейчас, Голландия, как известно, испытала в 1970-е годы, когда в Северном море открыли месторождение нефти. Пережив эйфорию от легких нефтяных денег, они стали строить настоящую экономику – такую, где деньги были обеспечены реальным товаром. Поэтому кризис – это не так уж и плохо. Да, проблемы, да, есть какой-то дискомфорт, мы потуже затянули пояса. Зато осознали, что надо кропотливо создавать нормальную экономику: сколько интеллекта и труда в нее вложим, такое будущее и получим.