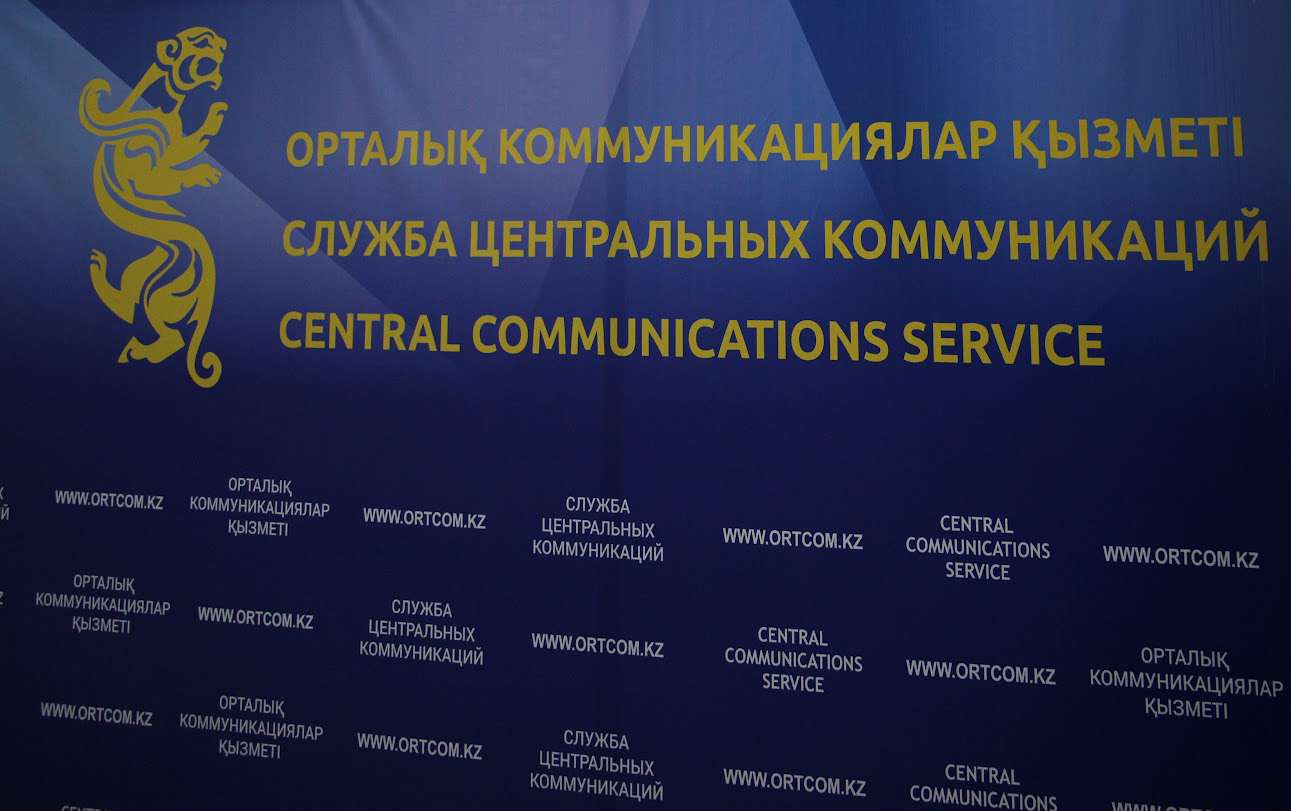В рамках конкурса на программно-целевое и грантовое финансирование по научным и научно-техническим проектам на 2018–2020 годы в АО «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы» поступило на государственную научно-техническую экспертизу (ГНТЭ) 4 488 заявок, завершен этап экспертизы, подготовлены заключения ГНТЭ и ранжированный список по каждому из 7 приоритетов. Всего к экспертизе было привлечено 2 120 экспертов из 56 стран.
– Кайрат Камалович, не так давно Вы сами возглавляли ННС. Можете пояснить, какие принципы заложены при формировании советов? Кем определяется их состав и могут ли члены ННС выигрывать гранты?
– Советы формируются Комитетом науки и Министерством образования и науки по согласованию с отраслевыми министерствами. Утверждаются постановлением Правительства. Совет складывается на таком пропорциональном соотношении: 50% ученых плюс 50% – представители производства и бизнеса. Объяснять, для чего нужен представитель от бизнес-структур, нет смысла. Участие бизнеса в работе ННС позволило в реальности дать компетентную оценку коммерциализуемости и востребованности проектов, ориентированных на практический выход. Думаю, первый опыт вот такого симбиоза представителей науки и бизнеса за одним столом можно считать удачным. И это нововведение принадлежит не нам, ученым, а Министерству образования и науки (реформы которого подвергаются сплошной критике, и частенько зря). В нашем ННС новшество уже сработало. Один из членов нашего совета, бизнесмен, владелец своего частного завода, решил объявить свой конкурс на решение научно-технологической задачи, необходимой ему как собственнику предприятия. Вот оно, привлечение средств бизнеса в науку!

Члены совета должны иметь соответствующий индекс Хирша. Надо заметить, что в стране сегодня всего 28 человек, имеющих индекс Хирша больше 5 за последние 5 лет. То есть это должны быть активно работающие ученые, чувствующие современное состояние дел в конкретных направлениях научной деятельности. При этом необходимо учесть: настоящий ученый никогда не будет бросать науку ради членства в совете. В ННС не должно быть дороги и администраторам – руководителям, озабоченным добыванием денег для своего института, предприятия.
Кроме того, и это очень важно, ученые – члены совета становятся победителями и грантополучателями. Этот факт означает: ученые – члены Национального научного совета – это специалисты, реально генерирующие идеи и занимающиеся научными исследованиями и представляющие интересные проекты.
Давайте вообразим: деньги на науку вновь делит околонаучная бюрократия... Какими бы они при этом руководствовались соображениями? Именно этот факт и назывался бы коррупцией. Что касается нас, мы подавали проекты на общих основаниях в сентябре-октябре прошлого года, членами же ННС стали в конце декабря 2017-го.
– ННС – это коллегиальные органы. Насколько часты спорные ситуации и как вы приходите к консенсусу?
– Проекты рассматриваются по списку в соответствии с баллами, полученными 3 независимыми и закрытыми иностранными экспертами, оценивающими качество проекта в соответствии с научной проблематикой. Обсуждение проектов на заседаниях совета свободное и независимое. Нет начальников и подчиненных.
Для более квалифицированной и профессиональной оценки проектов проводится организационная работа: по приоритетным направлениям, утвержденным решением Высшей научно-технической комиссии, мы организовали 3 неформальные секции ННС по подприоритетам.
Члены ННС добровольно выбирают секции по направлениям, в которых считают себя специалистами или которые их интересуют. Возможно участие в работе 2 или даже всех 3 секций. Далее происходит 3-ступенчатое обсуждение каждого проекта (в 3 «слушания»). Стараемся доводить обсуждение до консенсуса, и далее каждый проект ставится на голосование. Обсуждения вызывают горячие споры. И, наконец, тайное голосование – по каждой из работ, принятой или отклоненной.
– Что входит в Ваши компетенции как представителя ННС? И еще: в кулуарах поднимается вопрос о лоббировании определенных интересов в рамках того или иного вуза.
– При принятии решений одна из задач ННС – оценить выполнимость работ конкретным научным учреждением, от которого заявлена работа. В состав ННС входят ученые, имеющие опыт работы в различных научных учреждениях в нашей не такой уж густонаселенной стране, и поэтому они представляют научный потенциал не только самой науки, но и кадровую и техническую оснащенность того или иного института или вуза.
Этого-то иностранные эксперты как раз и не осознают. В результате наши «гранды», старые и известные научные коллективы, имеют естественное преимущество перед молодой «провинциальной» наукой благодаря более мощной исследовательской базе и более сильной кадровой оснащенности. Вместе с тем по итогам завершения рассмотрения нами проектов и грантов оказалось, что их география распределения значительно расширена: периферийные институты представлены достаточно широко вне зависимости от формы собственности. Естественно, лидеры по числу выигранных грантов – традиционные КазНТУ им. К. Сатпаева, КазНУ им. аль-Фараби, ЕНУ им. Л. Гумилева, Институт ядерной физики. Есть и представители Усть-Каменогорска, Шымкента, Атырау. Впервые появился победитель, обладатель гранта – физическое лицо, отдельный ученый. В этом случае, согласно закону о науке, требование только одно: заявитель проекта должен иметь лицензию на проведение научных исследований.
– В грантовых финансированиях нет направлений, ориентированных именно на молодых ученых. Рассматривали ли Вы в рамках этой проблематики вопрос разработки грантов для молодых ученых?
– Согласен. Но для молодых должны быть разработаны специальные конкурсы по самому широкому спектру научных направлений. Только не в рамках программно-целевого и грантового финансирования. Вопрос в том, как проводить эти конкурсы для молодых ученых? Ставить задачи полегче? Но молодежь должна, наоборот, решать сложнейшие задачи. Как в спорте: за счет молодого любопытства, упорства, выносливости, устремленности. Это, в принципе, в будущем. Тем не менее мы при выборе победителей грантового финансирования молодым коллективам предоставляли определенное преимущество.
– Как часто допускаются ошибки советов при заявках на грантовое финансирование?
– По завершении работы по определению финансирования проектов больших ошибок в работе нашего совета не видится. Тем не менее можно допустить, что они есть. Они могут проявиться при ежегодном мониторинге проектов, предусмотренном в течение всего срока исполнения проекта, и по завершающим отчетам по итогам 3-летней работы. ННС может остановить исполнение проекта в любой момент.
Сегодня идет широкая критика работы всех ННС. Считаю, частенько незаслуженная. Думаю, если сейчас поменять местами самых оголтелых критиканов работы советов и членов советов, то (при условии честной работы!) число финансируемых проектов и средние суммы финансирования будут приблизительно такими же. Вся проблема – в недостаточном финансировании.
– Насколько сильны зарубежные эксперты при рассматриваемых заявках? Насколько их специфика деятельности соответствует рассматриваемым заявкам?
– Конечно, хотелось бы отметить, что среди рассматриваемых 326 проектов по направлению «Энергетика и машиностроение» было очень много интересных заявок как фундаментального, так и прикладного характера. Каждый проект перед вынесением на голосование был детально рассмотрен. Принимая во внимание оценку международных экспертов, мы тщательно анализировали все аспекты реализуемости проекта в Казахстане. Многие сейчас апеллируют тем, что проекты с высокими баллами ГНТЭ были отклонены. Могу сказать только за наш совет. Гранты с самыми высокими баллами получили финансирование. Однако абсолютной однозначности здесь нет и быть не может.
Эксперты – иностранные ученые – «примеряют» к своей стране, своей лаборатории, собственному жизненному и научному опыту наши проекты. Вместе с тем научная проблема, высоко оцененная тем или иным из них, может при этом оказаться нереализуемой или невостребованной в Казахстане.
– Среди одобренных ННС по приоритету «Энергетика и машиностроение» выиграли проекты с достаточно невысокими баллами.
– По нашему научному направлению по 3 подприоритетам минимальные проходные баллы различные. У физиков – 25–26. По подприоритету «Машиностроение» минимальный балл одного из одобренных проектов – 20. Решение ННС объяснимо: много проектов по подприоритету «Машиностроение» ориентировано на производство, разработку промышленного образца. Такие проекты оказались не слишком актуальными с научной точки зрения для наших зарубежных коллег, но, исходя из реалий развития экономики и машиностроения Республики Казахстан, приоритетность и актуальность таких проектов крайне высока. И кроме того, очевидно, что машиностроение в Казахстане развито крайне слабо. Правда, радует то, что в области машиностроения проектов в нынешнем году стало существенно больше, чем 3 года назад.
В целом общий объем финансирования по приоритету «Энергетика и машиностроение» составил на 2018 год немногим более 808 миллионов тенге. Учитывались различные факторы на соответствие формальным требованиям к конкурсной документации, рассматриваемому приоритету научной (или) научно-технической деятельности, балл ГНТЭ, а также ряд дополнительных критериев: риски при реализации проекта, участие проекта и самого руководителя в Международной специализированной выставке «Астана ЭКСПО-2017», социально-экономическая значимость проекта в масштабе страны, региона, материально-техническая база заявителя, научно-технический уровень и интеграция в мировое научное пространство, вклад в развитие научных кадров и развитие человеческого капитала, индекс Хирша руководителя проекта.
Одобрено 84 заявки по 3 направлениям: «Тепло- и электроэнергетика и влияние энергетического сектора на окружающую среду, энергосбережение», «Альтернативная энергетика и технологии: возобновляемые источники энергии, ядерная и водородная энергетика, другие источники энергии», «Транспортное, сельскохозяйственное, нефтегазовое и горно-металлургическое машиностроение».
В условиях ограниченного финансирования, с учетом зарубежного опыта и мнения экспертов установлено: грантовое финансирование должно быть направлено на проведение поисковых исследований, проверку и отработку новых научных идей с минимальной нагрузкой на государственный бюджет, максимальную вовлеченность казахстанских исследователей и имеющейся в вузах, НИИ, на предприятиях материально-технической базы. Каждая заявка требовала детального рассмотрения с точки зрения обеспечения справедливых условий по отношению к другим соискателям, а также технической реализуемости.
Решения принимались с учетом мнений членов совета, представителей национальных компаний – управляющих холдингов, институтов развития, научных подразделений крупных производственных компаний, субъектов частного предпринимательства по рекомендации Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» (те самые 50% от состава ННС в соответствии с постановлением Правительства РК от 16 мая 2011 года № 519 «О национальных научных советах» с изменениями согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 5 апреля 2017 года № 171). При тайном голосовании строго выдержаны все процедуры.
– Кайрат Камалович, направления, по которым созданы ННС, – важнейшие. Вместе с тем финансирование уменьшается из года в год...
– Национальным центром по научно-технической экспертизе заявлено: государством на науку из года в год выделяется 0,15–0,17% от ВВП. Комментарии, как говорится, излишни. Но задача стоит двусторонняя и обоюдоострая: перед государством – как изыскать средства на науку, истинного двигателя экономики любой страны (при всех аспектах нашей экономической, социальной деятельности), а перед наукой и нами, учеными, – как адаптировать науку к бизнесу, промышленности и как научные исследования поставить на рельсы истинной фундаментальности, основательности для коммерциализации технологий. Даже в рамках рассматриваемого конкретного случая финансирования целевых программ и грантов на 2018–2020 годы, о котором говорим. Таких конкурсов не было 3 года, многие научные коллективы и отдельные ученые как манны небесной ждали его. В результате финансирование получили 25–30% проектов. По всей вероятности, такой же процент ученых принимал участие в конкурсе при финансировании, ставшем меньше почти вдвое в сравнении с тем, которое было 3 года назад.
Мы – совет, делящий выделенные средства на науку, и мы не Господь Бог, чтобы пятью хлебами накормить толпу народа. Соответственно, не получившие финансирование сейчас размышляют: «Что, еще на 3 года заморозить свои исследовательские работы, проекты, идеи?» Считаю, такой конкурс должен быть ежегодным и необходимо как минимум утроить вероятность получения финансирования.
– На Ваш взгляд, почему в разы снижают финансирование грантов относительно первоначальных заявок?
– При рассмотрении конкретно представленного гранта нами предпринималась оценка реальной стоимости проекта. Как правило, в проектах приводится финансовый расчет стоимости работ, который даже с большими оговорками нельзя считать серьезным финансово-экономическим обоснованием по следующим причинам: расчет фонда заработной платы и регламентирующие его документы отличаются у государственных и частных предприятий (возможно, Комитету науки необходимо определить здесь единые подходы, стандарты), стоимость требуемого для закупа оборудования сильно отличается от проекта к проекту, не предполагается использование оборудования национальных лабораторий открытого типа и лабораторий инженерного профиля, в иных проектах выделяют до 80–90% финансирования сторонним организациям (кто тогда при этом исполнитель проекта?).
– Почему сроки выполнения проектов и программ рассчитаны на 3 года? Поднимали ли Вы вопросы по срокам отрабатываемых проектов до 5 лет? Зарубежная практика показывает, что этот прецедент более эффективно срабатывает на конечный результат.
– Трехлетнее финансирование, которое проводится с нынешнего года, мы считаем нашим огромным достижением. Раньше средства, выделяемые на каждый год, определялись отдельно. В результате выполнение всех требований финансовых органов и Комитета науки приводило к тому, что реальные деньги доходили до ученых в мае-июне, а к октябрю-ноябрю нужно было сдавать годовой отчет за текущий год. Пятилетнее финансирование было бы еще большим благом и привело бы к формулированию учеными более масштабных задач, если… это выдержит наша экономика.
– Как, по Вашему мнению, должна финансироваться наука? Давайте пофантазируем. Достаточно ли сделать постоянными конкурсы по программно-целевому и грантовому финансированию, увеличив выделяемые средства, скажем, в 5–10 и более раз? Сделает ли это науку в государстве реальной производительной силой?
– При грантовом и программно-целевом финансировании государство в лице Высшей научно-технической комиссии, председатель которой – Премьер-министр страны, формулирует приоритетные направления, в которых предполагается проведение первоочередных научных исследований. Научное сообщество в лице отдельных ученых и их коллективов генерирует конкретные идеи и проекты. Решение по финансированию этих идей и проектов, так сказать, арбитрами в этих конкурсах должны быть Национальные научные советы по сформулированным направлениям. По нашему мнению, этот способ финансирования науки следует считать правильным, и надо этот алгоритм принять и всячески совершенствовать, только особенно четко добиваясь честности и обоснованности принятия решений по победителям конкурсов.
Вместе с тем одно могу сказать точно: сегодняшнее финансирование науки при имеющихся положительных реформах мало способствует системе эффективности исследований.
Кроме того, очевидно, что нужен еще один, может быть, самый главный уровень развития и реализации суперинноваций. Опыт середины прошлого века продемонстрировал невероятно быстрое развитие всей науки в целом не только в США и СССР, но и во всем мире, когда в этих странах решалась задача создания атомной бомбы и покорения космоса. А американская программа полета на Луну? Это было стремительное развитие не физики, химии, биологии или инженерных наук. Это было развитие и физики, и химии, и биологии, и инженерных наук! В целом – всей страны!
Такие научные программы приподнимали нацию и были национальной идеей! Вот только кто в нашей стране сформулирует такую проблему (или такие проблемы)? Научные учреждения? Коллективы ученых? Многочисленные академии наук?
Сегодня мир говорит о Четвертой технологической промышленной революции. Мы отстаем по большинству направлений. Говоря о финансировании, нельзя фантазировать и предполагать. Нужна системность.
Необходимо помнить, технологическая составляющая этого роста – научно-производственные решения, развитие моделей взаимодействия, позволяющие синтезировать первооснову научно-апробированного производственного цикла с высокотехнологичным бизнесом.
И именно с этой целью у нас должно рассматриваться финансирование научных проектов. Только тогда мы сможем быть конкурентоспособными на мировом рынке.