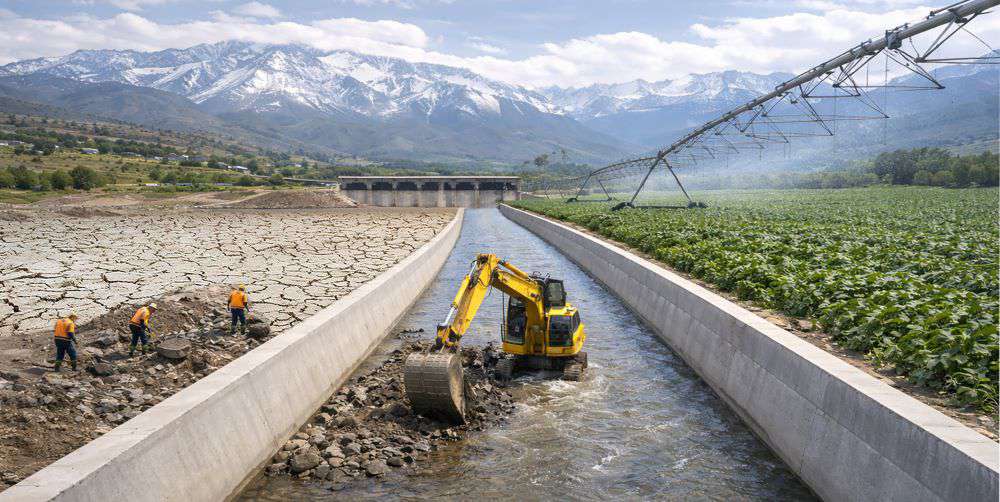«Казахстан и Россия сумели выстроить качественное и содержательное стратегическое партнерство и союзничество. В основе такого сотрудничества – осознанное стремление наших народов быть вместе в это турбулентное, непредсказуемое время. Другими словами, вечная дружба – это путеводная звезда для наших государств и народов». Эти слова из авторской статьи Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, опубликованной на днях в «Российской газете», еще раз напоминают о том, что наши предки, веками живя бок о бок, делили радости и испытания, вместе создавали единое культурное пространство Евразии.

«Ты – мой супруг любимый,⁄Богом указанный мне…⁄Но меня не избрал ты другом,⁄Оставил одну во тьме…»
Айгерим, как и прежде, вкладывала всю душу в каждое слово, в каждый новый перелив напева. Она не пела – она изливала глубоко затаенную грусть своего сердца. Это была уже не только Татьянина тайна: страстный шепот молитв и надежд вспыхнул жарким пламенем песни, рвался из груди самой Айгерим только к одному, единственному из всех – к Абаю.
Никто не смел нарушить молчания. Абай сидел бледный, с широко раскрытыми глазами. Он чувствовал, как холодок дрожи пробегал по его телу. Вдруг он резко сдвинул брови, порывисто обнял Айгерим и покрыл поцелуями ее влажные глаза:
– Айгерим, бесценная моя, песней и слезами своими ты снова нашла меня! Чистая, искренняя – ты сама вернулась ко мне!.. Ведь это твоя душа изливалась в тоске Татьяны!
Молодые друзья, окружавшие Абая, были глубоко взволнованы.
– О Татьяна, – дрогнувшим голосом сказал Исхак, – в дочери казаха ты нашла себя! Еще не одной душе, затаившей в себе свою чистую тайну, ты дашь язык!..
Так в зиму 1887 года великий русский поэт Пушкин впервые вступил в просторы казахских степей, ведя за руку милую свою Татьяну. Он принес в эти просторы радость своих песен, а его Татьяна пришла как близкая, как родная всем – и научила молодые сердца казахов тому языку искреннего чувства, каким еще никто не говорил в казахской степи».
Так написано в романе Мухтара Ауэзова «Путь Абая».
Именно с этого события начинается подлинное вхождение казахской культуры в мировую цивилизацию. Мы акцентируем слово «подлинное», потому что, конечно, не только страна казахов, по которой проходил Великий шелковый путь, но и любая нация и любой народ, независимо от места своего расположения, не может оставаться вне истории человечества, не пользоваться благами духовного богатства, созданного другими народами.
Немало такого влияния испытывал и казахский народ. Все же, если учесть, что взаимодействие между цивилизациями, между народами осуществляется в первую очередь посредством перевода, что на казахской земле у истоков перевода в истинном смысле этого слова стоял Абай, что яркое раскрытие переводческого таланта великого поэта, бесспорно, связано с романом «Евгений Онегин» Пушкина, то 1887 год следует, несомненно, оценивать как переломный момент в истории национальной культуры.
В действительности в мире нет, да и не может быть национальной литературы, развивавшейся без влияния других литературных традиций. Величие Абая проявляется, в частности, в своевременном осознании этого.
Обращает на себя внимание точное определение Абаем значимости «Евгения Онегина». Не говоря о других моментах, в признании Татьяны, в ее решении самой написать письмо молодому человеку Абай усмотрел невиданную смелость, что это совсем не чуждо природе и казахской женщины, которая, не зная, что такое паранджа, была способна и род возглавить, и в боевой поход воинов повести.
Такен Алимкулов в своей книге «Жұмбақ жан» коротко останавливается на том, как Абай пришел к «Евгению Онегину»: «Абаю был нужен эпохальный, летописный, многопластовый образец. В этом плане он выбрал роман «Евгений Онегин», который по праву признавали «энциклопедией русской жизни». Образы, называемые в русской литературной критике «лишними людьми», пришлись по душе Абаю. Как духовно близок был Пушкину Онегин, человек, бессильный бороться против власти общества, отчаявшийся от жизни, так же он был близок и Абаю. Вот почему он переводил отрывки из романа «Евгений Онегин».
Если Н. А. Добролюбов считал, что главная заслуга Пушкина перед человечеством состоит «в раскрытии русской души» всему миру, то эта заслуга поэта в первую очередь проявляется в «Евгении Онегине».
Известно, что Пушкин писал это произведение почти восемь лет. На протяжении этого времени мысли читающей публики России тесно перекликались с духовным миром поэта, она чувствовала себя сопричастной к судьбам персонажей романа. В широко развернутой панораме произведения читатели чувствовали поэтику повседневно протекающей, обыденной жизни, в характерах героев узнавали себя, своих знакомых, соседей, по-новому воспринимали окружающую природу, столицу, деревню, восхищаясь наблюдательностью, эмоциональностью, чувственностью, мастерством поэта. По мере публикации в журналах каждого раздела романа все сильнее укреплялась слава Пушкина как первого русского поэта, уже при жизни признанного современниками классиком, бесспорным гением.
Конечно, человеку, хоть раз прочитавшему «Евгения Онегина», излишне описывать его прелесть и достоинства. О многом, к примеру, говорит утверждение Абиша Кекилбаева, когда он называл его произведением, не имеющим аналога в мировой литературе: «Его главный духовный подвиг – конечно же, «Евгений Онегин». Тут нельзя не согласиться с Белинским, который называл роман «энциклопедией русской жизни». Действительно, главное пушкинское творение максимально раскрыло национальную природу таланта самого поэта. Однако неповторимое значение произведения, не имеющего аналога в мировой литературе, не ограничивается только широчайшим показом современной ему жизненной действительности. В ту пору русское общество, которое когда-то разгромило Наполеона и завоевало огромный авторитет на международной арене, духовно воспрянуло, и, как результат этого, в нем стали распространяться идеи свободолюбия. Неожиданно столкнувшись с монолитом властного насилия, общество было шокировано этим и впало в депрессию; в условиях такой духовной трагедии возникла масса сложных, порой неразрешимых вопросов, на которые могло дать ответы именно это произведение, ибо оно охватывало самые различные пласты социальной действительности».
Мелодичность, музыкальность слова в поэзии Пушкина – чудо, зачастую недоступное человеческому разуму. В этом его мастерстве как раз заключаются истинное величие поэта, его неповторимая обособленность. Еще в далекие 50–60-е годы прошлого века с помощью электронно-вычислительных машин математическим способом было доказано, что звукопись пушкинского стиха основана на удивительной гармонии.
Казахский читатель эпохи Абая, естественно, не был в состоянии всецело воспринимать подобное творение в оригинальном виде и объеме. Причем дело заключается не в «отсутствии соответствующей подготовки читателя», а в том, что тогда совершенно другой была литературная традиция. Потому-то и стремился Абай сделать из пушкинского произведения «эпистолярный роман», потому что он четко и тонко чувствовал, насколько романтический характер в степной действительности носит любовная переписка молодого человека и девушки.
Немало написано о том, насколько широко были известны в степи переводы Абая из Пушкина. Исследуя печатные материалы, имеющие отношение к переводам Пушкина, мы столкнулись со статьей Беркаира Аманшина «Татьянаның Торғайдағы әні». В ней приводится факт, взятый из книги Дм. Львовича «По киргизской степи», выпущенной изданием Девриена в 1914 году. В очерке «Когда возвращались птицы» автор рассказывает о своем пребывании во время охоты на Кур-Тамызском и Теректинском озерах в седьмом ауле, относящемся к Тусынской волости. Там он остановился в доме у некоего Нурпеиса. После ужина он слушал исполнение казахских песен пожилого человека по имени Аблай Карабатыров.
«Я искренне высказал Аблаю свое восхищение его игрой и пением и просил спеть что-нибудь еще, только повеселее, – пишет автор. – Он не заставил себя упрашивать, быстро настроил домбру и, взяв несколько переливчатых аккордов, затянул новую песню, по мотиву, правда, столь же заунывную, как первая, но слова!.. слова!.. Признаюсь, сразу я собственным ушам не поверил… Вообразите только, старый киргиз распевал, не более – не менее, как… письмо Татьяны Онегину… «Письмо» также имело всеобщий успех, причем, как и следовало ожидать, особенно одобрительно отнеслась к нему жена Нурпеиса. Я спросил Аблая, не знает ли он, кто сочинил эту песню: по его словам, выходило, что тоже какой-то ихний «улянгчи»… Об истинном авторе он, конечно, даже не подозревал».
Восхищает умение Абая трезво учитывать природу казахского понятия, мировосприятия. Слова пушкинской Татьяны «Хоть редко, хоть в неделю раз⁄В деревне нашей видеть вас» он переводит так: «Даже сгорая от нетерпения, я бы вынесла все,⁄Если хоть раз в месяц пришлось бы видеть вас». Почему не раз в неделю? Он пишет так, потому что свое произведение адресует молодежи казахского аула. А степь – не деревня, в русской деревне люди по крайне мере один раз в неделю собираются вместе – молиться в церкви. В огромной же степи люди рады и тому, когда встречаются хотя бы раз в месяц. А парень с девушкой вообще видятся очень редко, опасаясь возникновения нежелательных слухов, кривотолков. Тут уместно упомянуть и то, что казахи при встрече в степи очень подробно расспрашивают друг друга о житье-бытье, о здоровье членов семьи и родственников, о сохранности скота и так далее, видимо, заранее зная, что следующая встреча предстоит нескоро.
В переводе Абая есть места, которые поистине удивляют глубиной и совершенством художественного мастерства. Так, уже приведенные нами слова Татьяны «Сен шошыдың ғашығыңнан,⁄ Өзге жұрттан қамшы жеп» могут раскрыть все тонкости трагизма романа. И в самом деле, Онегин «избегает возлюбленную», так как он «перенес немало страданий от других людей». Уже начиная с имени и фамилии, по словам Ю. М. Лотмана, просматривается облик человека, «пользующегося привилегиями предков, но не имеющего их заслуг». Даже его фамилия носит налет сарказма. По обычаю того времени, как правило, фамилии именитых дворян представляют собой топонимы (к примеру, Можайский, Мещерский, Звенигородский), то есть имеют отношение к землям, принадлежавшим их предкам, династии. А Онегин – гидроним. Но ведь известно, что никто не может полностью владеть рекой по всей ее длине или огромным озером.
Абай преподнес своему народу не отрывки пушкинского романа «Евгений Онегин», он создал новый вариант этого произведения. Причем создание романа в виде писем связано не только с «неподготовленностью читателя». В эпоху Абая в казахском ауле давно стала традицией любовная переписка между юношами и девушками, причем эти письма, как правило, писались стихами, и все это носило своеобразный романтический характер. Абай верно нащупал запрос своего читателя. Вероятно, если бы он перевел пушкинский роман по классическому образцу перевода, полностью сохраняя размер и рифмовку стиха, вряд ли тогдашний степной народ воспринял бы его так близко, как эти отрывки. В этих 376 строках полностью раскрыты, всецело переданы самые необходимые, самые новаторские для казахов мотивы, а также свежий дух романа Пушкина.
Трудно согласиться с высказыванием о том, что было политической конъюнктурой того времени признавать тезис: «На творчество Абая оказал влияние, как указывал в свое время Ауэзов, один из трех источников – русская культура». Нельзя ставить вопрос так однобоко. Намного правильнее будет поставить его следующим образом: «В то время мало говорилось о влиянии на поэта других источников – чисто народных, родных истоков поэзии и традиционной литературы Востока».
Необходимость усиления акцента в эту сторону отнюдь не означает, что надо говорить о необходимости ослабления значительного влияния на Абая русской литературы и через нее – западной. Эти понятия только взаимно дополняют друг друга, способствуя большему раскрытию феномена Абая. Никто не может отрицать то, что самые удивительные стихи великого казахского поэта родились именно после его знакомства с романом Пушкина. Это, конечно, не означает, что они написаны под влиянием Пушкина. Но бесспорно, что пушкинская поэзия вывела Абая на новые творческие рубежи, неизмеримо повысила его требовательность к искусству поэтического слова.
Переводы Абая из «Евгения Онегина» – яркое свидетельство подлинного величия казахского поэта.
Помнится, в Год Абая в России московское издательство «Русский раритет» попросило нас отправить для сборника «Пушкин – Абай» статью по пушкинистике. Не зная запросы издательства, мы направили несколько вариантов статей, оставляя выбор за редактором книги. Из них издательство выбрало статью «О, Татиш!» о казахских народных вариантах «Евгения Онегина». Почему? Да потому что в нашей статье речь шла об одном, на наш взгляд, интереснейшем культурном явлении – о народных дастанах, сочиненных степными акынами по мотивам романа «Евгений Онегин»...
Да, такие дастаны существуют. Авторы народных дастанов, созданных по мотивам «Евгения Онегина», – Асет Найманбаев, Куат Терибаев, Сапаргали Алимбетов, Арип Танирбергенов, Есенсары Кунанбаев. А варианты Шарипова, Кульдеева – чуть измененные виды этих пяти вариантов. Среди вариантов казахского дастана «Евгений Онегин» в стиле «назира» наибольшее распространение в народе получила поэма Асета Найманбаева «Онегин и Татьяна» (тираж книги, изданной в 1988 году, составил 35 тыс. экземпляров). А имеют ли они отношение к переводческой деятельности Абая? Имеют, и самое прямое. Если сказать одной фразой: без «Евгения Онегина» Абая эти дастаны даже не могли быть сочинены по той простой причине, что ни один из этих акынов – авторов поэтических переложений романа – не владел русским языком. Самое главное, что благодаря переводу Абая они прочувствовали дух великого романа.
Уже почти невозможно сказать что-то новое в пушкиноведении. Но казахские народные дастаны по мотивам русского романа – уникальное явление в мировой фольклорной традиции.
Как не восхищаться тем, что произведение русского, истинно национального поэта, созданное им на основе чисто русской действительности, еще в прошлом веке благодаря гению Абая песней зазвучало в бескрайних казахских степях? Как не гордиться этим уникальным событием? Такое же чувство гордости овладевает, когда думаешь о казахских поэмах и дастанах, созданных по мотивам пушкинского романа. Эти образцы творчества ярко свидетельствуют о широте души нашего народа, ориентированной только на доброе, о чуткости его сердца, всегда близкого к позитивным новшествам, об особой симпатии к человеку искусства и огромной любви к поэзии, о способности даже изменить внутренние нюансы национального менталитета.
Каковы причины, послужившие толчком к созданию народными акынами поэм по мотивам «Евгения Онегина»? Их много. Они кроются в великом таланте Пушкина. В переводческой мощи Абая. В преемственности традиций поэтической школы, сформированной Абаем. В огромной любви нашего народа к поэзии в целом. В высоком уровне культуры перевода, благодаря чему было сформировано уважительное отношение к сокровищницам мировой литературы. Все это бесспорно. Но только ли в этом дело?
Значение творчества Пушкина, в особенности «Евгения Онегина», в нашей национальной культуре представляет собой феноменальное явление. Герои его произведения настолько вселились в сердца людей, заняли место в сознании нашего народа, что имя Татьяны в казахскую среду вошло под привычным, ласкающим слух девичьим именем Тәтіш, и это действительно уникальный случай. А сводить суть этого удивительного явления только к уровню таланта отдельных акынов было бы слишком поверхностно.
Скорее всего, дело в том, что на протяжении веков в казахской степи слово, особенно слово художественное, поэзия превратились в своеобразный культ. В обществах с недостаточно развитой письменной традицией слово приобретает таинственную силу, иногда даже некое мистическое свойство. Для кочевников слово не только и не просто «средство общения», оно – спутник души, жизненная необходимость каждого человека, механизм катарсиса. Но самое главное, что в жизни казахского народа культурные факторы вообще занимают исключительное место. Казахи – весьма приспособленный для культурных взаимоотношений народ.
Евразийский тип культуры, который постепенно, последовательно сформировался на просторах древней казахской степи в течение последних двух с половиной веков, проложил надежный мост между народами Казахстана и России. Глава государства Касым-Жомарт Токаев отмечает: «На этой незыблемой основе мы уверенно идем вперед по пути многопланового сотрудничества, проявляя при этом взаимное уважение к истории, культуре, традициям наших народов».