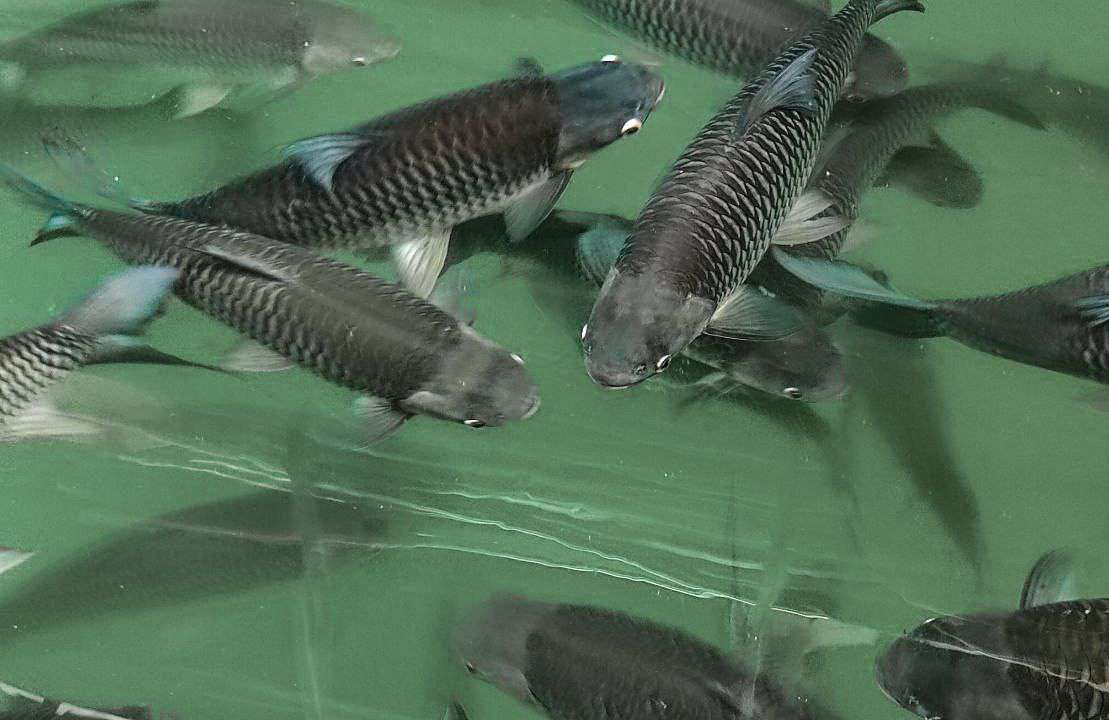Необходимо подчеркнуть, что решения Европейского суда носят прецедентный характер. По сути, изложенные в них правовые подходы обязательны для всех государств – участников Европейской конвенции по правам человека 1950 года. Казахстан (в отличие от большинства постсоветских государств) не является участником данной конвенции, однако в силу тесного родства с европейской правовой культурой нам было бы полезно знать точку зрения лучших юристов на основные правовые проблемы современности.
Сегодня хотелось бы разобрать постановление ЕСПЧ по делу «R. S. против Польши», вынесенное в Страсбурге 21 июля 2015 года. Оно посвящено крайне важной и актуальной проблеме – вывозу детей из страны одним из родителей вопреки воле другого.
Миграционные процессы и прозрачность границ все чаще приводят к таким житейским драмам, которые впоследствии становятся предметом многолетних судебных тяжб. Односторонние действия одного родителя должны во всех случаях получить правильную юридическую оценку. На чем она должна быть основана? Ответ на этот вопрос можно найти в указанном постановлении ЕСПЧ.
Фактические обстоятельства дела таковы. Супружеская пара – граждане Польши – проживала в Швейцарии с двумя родившимися там же детьми. После того как отношения между супругами ухудшились, они стали жить в Цюрихе раздельно. Еще через какое-то время мать выехала с ними на каникулы в Польшу, куда заблаговременно подала в суд на расторжение брака и установление опеки над детьми, отказавшись возвращаться в Швейцарию.
Польские суды сначала признали мать временным опекуном, а позже расторгли брак, попутно решив, что дети должны проживать с матерью, и установив право заявителя (отца) на регулярные контакты с ними и обязанность выплачивать алименты. Характерно, что отец не был извещен о судебном заседании и не присутствовал на нем.
Одновременно с этим швейцарские суды по требованию заявителя признали в действиях матери нарушение Гаагской конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей. На основании этого решения заявитель потребовал от польских судов вынести решение о принудительном возвращении детей в Швейцарию, однако ему было отказано. Польские суды мотивировали свой отказ вернуть детей в Швейцарию тем, что их выезд на каникулы совершен с согласия отца, а последующее пребывание в Польше основывалось на решении польских судов о назначении матери временным опекуном.
Таким образом, в вопросе о месте проживания несовершеннолетних столкнулись не только интересы их родителей, но и судебные решения двух стран – государства их гражданства и государства их проживания.
Аргументируя свою жалобу в ЕСПЧ, отец вывезенных детей настаивал на том, что решения польских судов нарушили его право на уважение семейной жизни, предусмотренное статьей 8 Европейской конвенции. Это нарушение произошло вследствие того, что польские власти отказались рассматривать вопрос о возвращении несовершеннолетних в контексте Гаагской конвенции. В частности, суды Польши, не принимая во внимание позицию швейцарского суда, даже не оценивали законность действий матери с точки зрения международного права. Вместо этого они сосредоточились на решении вопроса об опекунстве и определении места жительства детей. Соответственно, при таком подходе вернуть несовершеннолетних в Швейцарию было просто нереально.
В свою очередь польские власти представили ЕСПЧ развернутые возражения, в которых доказывали необоснованность жалобы заявителя. Государство-ответчик ссылалось на следующие факты: заявитель дал согласие на выезд детей в Польшу на каникулы; во время их нахождения на каникулах польский суд успел вынести решение об опекунских правах матери, на основании чего дети могли оставаться в Польше; все решения польских судов принимались с учетом интересов несовершеннолетних, которые успешно адаптировались к жизни в новом государстве.
По мнению польской стороны, в данном случае вообще не было оснований квалифицировать действия матери как незаконные, так как у пребывания детей в Польше все время были законные основания: сначала – согласие отца на выезд детей на каникулы, потом – решение польского суда.
Оценивая аргументы сторон, ЕСПЧ напомнил базовые принципы, которые должны применяться в подобных ситуациях. Все они связаны с толкованием и применением уже упомянутой Гаагской конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей, принятой в 1980 году.
Данная конвенция, которую Казахстан ратифицировал 13 ноября 2012 года, была принята с целью незамедлительного возвращения детей, незаконно перемещенных либо удерживаемых в любом из государств-участников.
Что понимается в конвенции под незаконным перемещением или захватом ребенка? Ответ на этот вопрос можно найти в статье 3 указанного документа. Для того чтобы признать вывоз ребенка из страны незаконным, достаточно двух условий: при этом нарушаются родительские права второго родителя; в момент вывоза этот второй родитель действительно пользовался своими правами, то есть общался с ребенком, участвовал в его воспитании, заботился и тому подобное.
По смыслу конвенции, в каждом случае установления незаконного перемещения ребенка через государственную границу государства должны приниматься все меры для его незамедлительного возвращения. Единственное исключение из этого правила – ситуация, при которой возвращение ребенка в страну обычного проживания ставит под угрозу его физическое или психологическое здоровье.
При решении данного дела ЕСПЧ также напомнил суть пояснительной записки к Гаагской конвенции, в которой говорится, что односторонний вывоз ребенка одним из родителей является незаконным независимо от того, нарушает ли он какие-либо внутригосударственные правила. Незаконность заключается в самом факте игнорирования интересов второго родителя, который лишается естественной возможности нормально общаться со своим ребенком.
Согласно устойчивой прецедентной практике Европейского суда, общение родителей и детей – фундаментальная основа права на уважение семейной жизни, закрепленная в статье 8 конвенции 1950 года.
При этом статья 8 защищает каждого человека от произвольного вмешательства в его семейную жизнь не только со стороны государства, но и со стороны частных лиц. Именно так и было в рассматриваемом деле: заявитель лишился возможности регулярно общаться со своими детьми из-за односторонних действий своей супруги.
В связи с этим ЕСПЧ подтвердил, что у государства есть не только обязанность самому воздерживаться от нарушения семейных прав граждан, но и обязанность защищать их от нарушений, допущенных третьими лицами. При этом ни одно государство не вправе определять судьбу детей под влиянием тех обстоятельств, которые сложились вследствие односторонних действий одного из родителей, чтобы он не мог получать юридические преимущества от ситуации, которую сам же и создал. Например, ссылка на тот факт, что незаконно вывезенный ребенок адаптировался в новом государстве, не может приниматься во внимание – в противном случае родители, похищающие собственных детей, получили бы стимул для подобных действий и всяческого затягивания судебных процессов.
Применяя эти соображения к рассматриваемому делу, ЕСПЧ отметил, что вывоз детей из Швейцарии в Польшу на двухнедельные каникулы не был незаконным, так как их отец дал на это свое согласие. Однако относительно дальнейшего пребывания детей в Польше Европейский суд пришел к противоположному выводу.
Суд, в частности, указал, что решение польских судов о признании матери опекуном детей никак не отменяет того факта, что на тот момент страной их постоянного проживания была Швейцария, а заявитель осуществлял свои отцовские права, регулярно контактируя с детьми. Следовательно, продолжающееся пребывание детей в Польше, на которое их отец никогда не давал своего согласия, нарушило его родительские права по смыслу Гаагской конвенции. Польские суды, игнорируя требования международного права и позицию швейцарского суда, руководствовались только польским законодательством, что лишило заявителя возможности вернуть детей в Швейцарию.
Более того, с точки зрения польского законодательства тот факт, что отец детей не давал своего согласия на длительный вывоз их из страны, вообще не имел никакого значения.
ЕСПЧ также указал, что польские суды, отказывая отцу в возвращении детей в Швейцарию, ссылались на свое же решение, которым определили опекунские права матери. Между тем заявитель не имел возможности присутствовать на том судебном заседании и изложить свою точку зрения. Такое нарушение процессуальных прав заявителя само по себе свидетельствует о юридической дефектности судебного решения, сыгравшего решающую роль в судьбе детей.
В мотивировочной части постановления ЕСПЧ примечателен и такой факт. Согласно Гаагской конвенции, во всех случаях, когда речь идет о предполагаемом похищении ребенка, власти должны реагировать максимально оперативно, потому что промедление в таких вопросах грозит непоправимыми последствиями: месяцы и годы разлуки родителей с детьми приводят к разрушению естественных связей между ними. В данном же деле польские суды затянули вынесение решения по начатому отцом детей процессу более чем на полгода. По мнению ЕСПЧ, такой срок не отвечал требованию безотлагательности, установленному Гаагской конвенцией.
Наконец, ЕСПЧ отметил, что польские суды ни разу не предприняли попытку оценить, насколько возвращение детей в Швейцарию отвечает их интересам. Ни в одном судебном решении не говорилось, что такое возвращение вследствие личности их отца или его поведения сказалось бы на детях отрицательно.
С учетом всех этих соображений Европейский суд вынес решение в пользу заявителя, признав в действиях польских властей нарушение его семейных прав и обязав выплатить в его пользу денежную компенсацию.
Чем любопытно данное дело и какие из него можно сделать выводы? Во-первых, суд подтвердил важнейшую (хотя и неявную) презумпцию, заложенную в Гаагской конвенции 1980 года – в интересах ребенка проживать в той стране, где он родился и вырос. Эта презумпция опровержимая, но для того, чтобы оправдать односторонний вывоз ребенка из страны его постоянного проживания, нужны очень веские причины. А именно – угроза его жизни и здоровью, требующая смены места жительства.
Кроме того, никакие судебные и административные решения относительно судьбы вывезенного ребенка не должны приниматься до тех пор, пока он не будет возвращен в государство своего проживания и не будет восстановлена его естественная связь со вторым родителем.
К тому же односторонний вывоз ребенка одним из родителей во всех случаях должен оцениваться как незаконный независимо от положений национального законодательства. И, соответственно, такой родитель при дальнейшем определении судьбы детей должен нести ответственность за свои действия, нарушившие права второго родителя.
Даже законный вывоз ребенка за границу превращается в незаконный, если такой «визит» затягивается вопреки желанию второго родителя. Если разрешение на выезд охватывает только каникулы, то буквально со следующего дня после их окончания начинается нарушение прав второго родителя.
Проще говоря, никогда нельзя увозить своих детей за границу, если при этом нарушаются опекунские права второго родителя. Мы не берем в расчет форс-мажор, когда в стране постоянного проживания ребенку грозит смертельная опасность, и промедление невозможно.
Если вывоз ребенка приводит к серьезным помехам для осуществления родительских прав (в силу большого расстояния или продолжительного времени) и в момент вывоза второй родитель участвовал в воспитании ребенка, факт незаконности вывоза презюмируется автоматически.
Обращает на себя внимание, что в деле «R. S. против Польши» были три существенных момента, которые играли против заявителя. Было дано согласие на вывоз детей в Польшу (правда, лишь на каникулы). Кроме того, мать детей оформила над ним временное опекунство в тот момент, когда это согласие еще действовало, то есть нахождение детей в Польше было законным. Также заявитель своими действиями во многом спровоцировал это бегство бывшей жены. Он создал новую семью, ограничил бывшую жену в финансовом отношении, затруднил ей трудоустройство. Но даже при всем этом он победил.
Что уж говорить о случаях, когда один из родителей, обиженный на второго, хватает в охапку детей и сбегает, не говоря ему ни слова?
Насколько казахстанское законодательство и судебная практика соответствуют правовой позиции ЕСПЧ?
Сразу обращает на себя внимание, что вопреки распространенному заблуждению казахстанское законодательство не требует при вывозе ребенка за границу одним из родителей согласия второго родителя. Такое согласие могут требовать отдельные государства, в которые казахстанцы ввозят своих детей, наш же закон данного требования не содержит.
Согласно постановлению Правительства от 28 марта 2012 года № 361, согласие второго родителя требуется только в тех случаях, когда ребенок вывозится за границу на постоянное место жительства. Во всех других случаях супруги совершенно свободны вывозить детей куда им заблагорассудится. Ни один государственный орган даже не спросит сопровождающего ребенка родителя, насколько согласована его поездка со вторым родителем.
Не оценивая целесообразность этой нормы, хочется отметить следующее. На практике вполне возможны ситуации (и их очень много!), когда один из родителей вывозит ребенка без согласия или даже без ведома второго родителя за границу на временной основе, а потом до бесконечности продлевает регистрацию в новом государстве. Или, как вариант, периодически возвращается в Казахстан только для того, чтобы вновь пересечь границу.
Но это, как говорится, полбеды. Проблема еще и в том, что казахстанские правоохранительные и судебные органы либо вообще не осведомлены о существовании Гаагской конвенции, либо не знают ее содержания и неправильно толкуют.
Так, 31 марта 2015 года Апелляционная судебная коллегия Алматинского городского суда вынесла постановление № 2а-1192/;15, которым отказала одному из родителей в исковом требовании о запрете вывозить ребенка из страны без его нотариального согласия. Обращает внимание следующий пункт постановления, в котором оценивается ссылка истца на требования Гаагской конвенции (орфография и пунктуация сохранены):
«Относительно доводов истца, указанных в апелляционной жалобе, со ссылкой на статью 3 Гаагской конвенции «О гражданских аспектах международного похищения детей», коллегия считает их необоснованными и не применимыми в сложившихся правоотношениях.
Вышеназванная статья применима к несовершеннолетним, в отношении которых установлен факт незаконного перемещения или удержания уголовным судопроизводством».
Это пример того, насколько внутригосударственное толкование международного договора отличается от общепризнанного. Статья 3 Гаагской конвенции ничего не говорит об оценке вывоза ребенка в уголовно-правовом контексте. Если ваших детей вывезли за границу без вашего согласия в тот момент, когда вы пользовались своими родительскими правами, факт нарушения можно считать установленным.
Фактически казахстанский суд поставил возможность применения Гаагской конвенции в зависимость от результатов уголовного преследования, тогда как конвенция касается не уголовно-правовых аспектов, а осуществления одним из опекунов ребенка своих родительских прав. «Похищение» по смыслу конвенции не должно трактоваться исключительно в уголовном смысле, однако апелляционная инстанция применила именно такой подход. В итоге суд пренебрег тем простым фактом, что из-за односторонних действий одного из родителей второй родитель и ребенок не видели друг друга более четырех месяцев.
Такое толкование Гаагской конвенции ставит второго родителя практически в безвыходное положение, потому что ни один правоохранительный орган никогда не признает факт похищения ребенка собственным же отцом (матерью). По этому же делу истец обращался в полицию и прокуратуру, которые прекращали всякие действия, как только устанавливали, что ребенок вывезен не посторонними лицами, а одним из родителей. Другому родителю было указано, что поднятые им вопросы касаются гражданских правоотношений и подлежат рассмотрению судами.
Получается замкнутый круг: гражданский суд требует, чтобы второй родитель вывезенного ребенка представил обвинительный приговор, вынесенный в рамках уголовного судопроизводства. Органы же уголовного преследования направляют родителя в гражданские суды.
Между тем смысл Гаагской конвенции (и это подтвердило рассмотренное решение ЕСПЧ) заключается в охране родительских прав, а не личной неприкосновенности ребенка. Узкое толкование этого документа означает, что государство фактически самоустраняется от защиты родительских прав своих граждан.
Очевидно, что в условиях усиливающейся миграции населения казахстанцам придется все чаще сталкиваться с подобными ситуациями. Соответственно, государство должно быть готово к тому, чтобы защищать их права в соответствии с требованиями международных стандартов. И работать здесь нужно в двух направлениях одновременно: внося соответствующие поправки в текущее законодательство и ориентируя суды на более активное применение международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан.
Эта необходимость осознается руководством судебной власти страны. 10 июля 2008 года Верховный суд РК вынес нормативное постановление № 1 «О применении норм международных договоров Республики Казахстан». В нем он напомнил нижестоящим судам, что положения международных договоров, не требующие издания законов для применения, действуют в нашей стране непосредственно. При рассмотрении гражданских дел такие международные договоры используются в качестве норм материального или процессуального права.
Представляется, что для точного и неукоснительного выполнения требований этого постановления казахстанским судам нужно не только знать содержание международных договоров страны, но и учитывать прецедентную практику авторитетных международных органов.