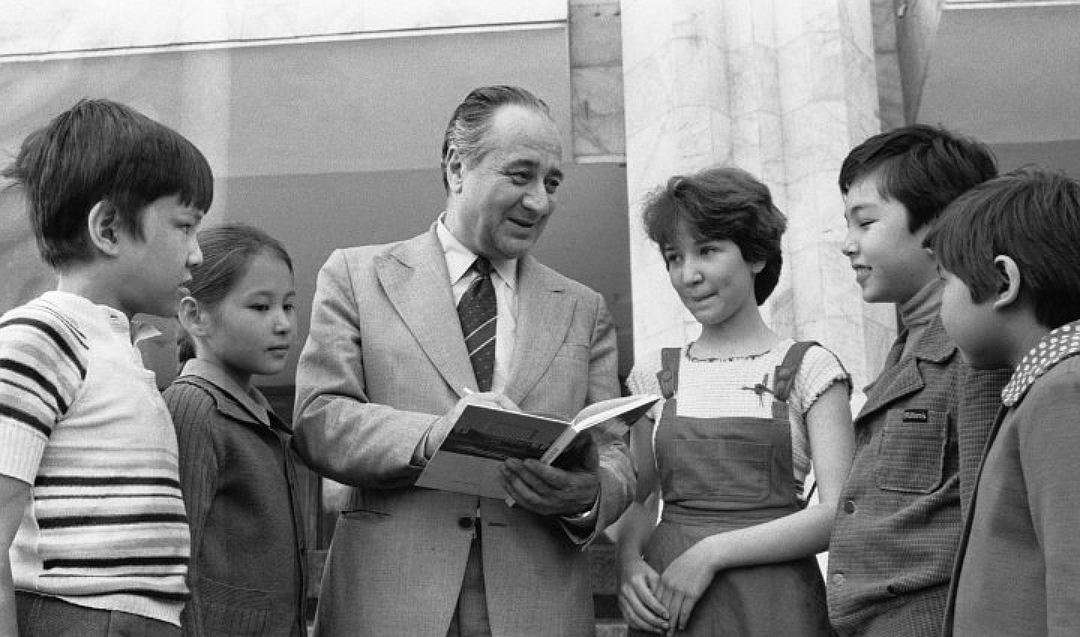Стремление к взрослости
2807
Илья Пащенко
В нынешнем году исполняется 100 лет со дня рождения классика детской литературы Анатолия Алексина