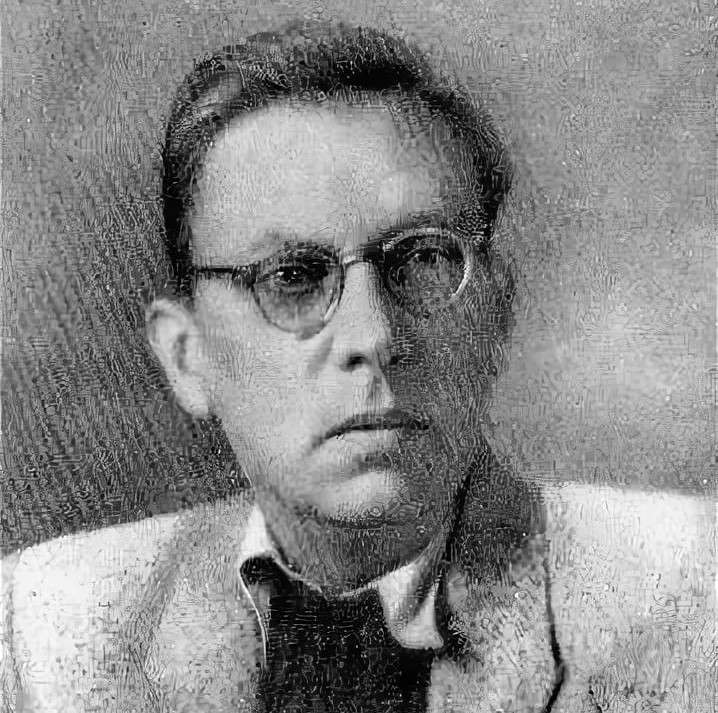На виражах судьбы
1129
Илья Пащенко
В нынешнем году исполняется 125 лет со дня рождения выдающегося писателя Петра Павленко