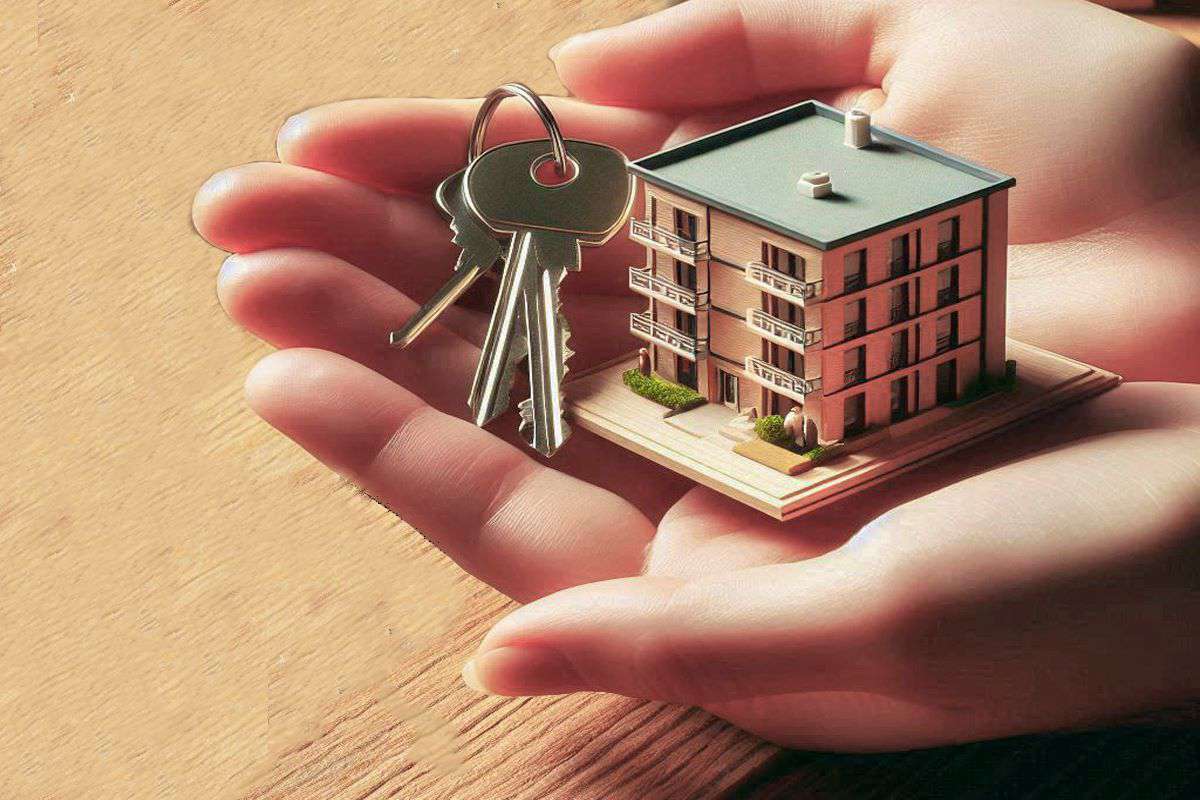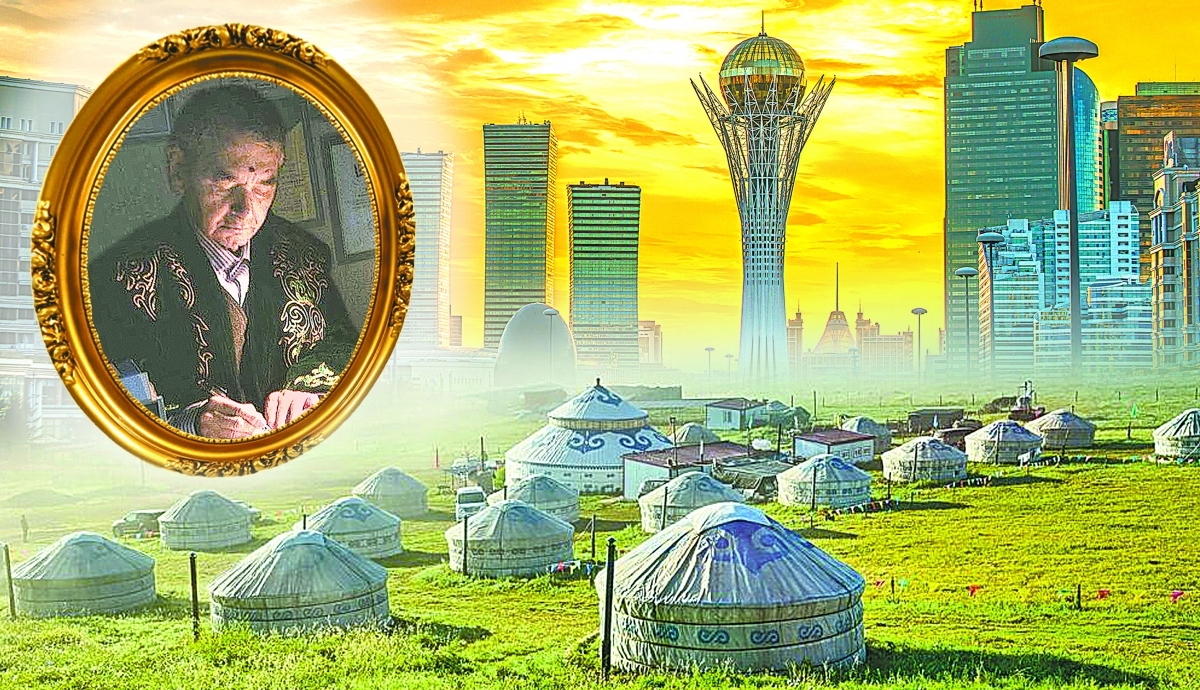
Досужим домыслам о скудости нашего языка вполне подходит определение из модного сегодня english – фактоид (принимающий вид факта) – ложное утверждение, которое облекается в форму достоверного, или недостойная доверия информация, принимаемая повсеместно за правду. Иные ученые мужи искренне полагали, что казахский язык – это скотоводческий диалект узбекского.
– Есть необъяснимая магия в казахском речестрое, – отвечает таким «экспертам» Герольд Бельгер, называя его упругим, мускулистым, напористым и дерзким.
И следом приводит свидетельство Василия Радлова (собственно Фридриха Вильгельма), знатока народной литературы тюркских племен: «Киргизы (то есть казахи) отличаются от других своих соплеменников особенной ловкостью в выражениях и замечательным красноречием». Затем автор ссылается на «Русско-киргизский словарь» профессора М. Машанова, изданный в Оренбурге в 1899 году. В этом «талмуде» конца позапрошлого века приводятся 25 казахских синонимов к русскому слову «вид». При этом исследователь добавляет: «Вот неполный перечень компонентов того синонимического ряда, который соответствует русскому понятию «вид».
«Жақсы сөз – жарым ырыс» – эту казахскую поговорку Герольд Бельгер усвоил вместе с молоком, которым с ним делились соседи-аулчане. С раннего детства, которое пришлось на голодные военные годы, он постигал казахский язык, запоминая, к примеру, что из коровьего молока готовят «ағарған» («белую пищу»). И в своем эссе он перечисляет десятки названий молочных продуктов, добавляя: «Ни в русском, ни в немецком языках не подберешь для всех этих названий адеквата. Приходится прибегнуть к описательному, разъяснительному переводу. И это открытие поражает».
Немецкий мальчик учил казахский, вникая в смысл названий близлежащих аулов, входивших в радиус обслуживания его отца-врача.
«Как метко и поэтично! – поражается автор эссе. – Казахи – большие мастера по определению, характеристике местности. Точнее не скажешь, точно и картинно! И мне это интересно».
Дальше Герольд Бельгер свидетельствует, что многие русские по фонетическому обличью названия местности на самом деле неузнаваемо искаженные казахские слова. К примеру, Ганюшкино оказывается ничем иным, как Қан ішкен (место побоища, где проливалась кровь), ущелье Комиссар на самом деле называется Кім асар (Кто одолеет?). И таких казусов, говорит автор, в Казахстане пруд пруди. Из тех же детских воспоминаний названия шерсти разных видов – шерсть весенней стрижки, осенней стрижки, «мертвая» шерсть линяющих животных, нежная шерсть, шерсть без щетинок, мягкая шерсть, как пух, грубая, с шерстинками.
Не обходит своим вниманием знаток казахского языка и градацию, родственные связи поколений. Вот как делается это по-русски: сын, внук, правнук, праправнук, прапраправнук. Так же и по-немецки: Sohn – Enkel – Urenkel – Ururenkel – Urururenkel. И совсем иначе у казахов: бала, немере, шөбере, шөпшек, немене, туажат, жүрежат (седьмое поколение). Дальше жұрағат – с этого поколения можно вступать в брачные отношения. Известно, что до этого поколения брачные отношения строго возбраняются, ибо ведут к кровосмешению. «У казахов, в отличие от многих народов, как европейских, так и азиатских, это строгий генетический закон, нравственная основа развития и размножения народа. По-научному это называется экзогамия – запрет брачных отношений между членами родового объединения до седьмого поколения», – поясняет Герольд Бельгер.
Идем далее – жекжат, близкие отношения сватов. Затем – жамағат (общий народ). Принятый порядок строго регламентирует родственные отношения, например, внука от сына называют немере, а внука со стороны дочери – жиен. «Городские казахи нередко путают эти понятия, подражая русским: все внуки – немере. С точки зрения казаха это некорректно. Кстати, племянник тоже жиен. Выходит, у внука от дочери и у племянника примерно равный общественно-социальный статус», – делится автор.
С большим удовольствием Герольд Бельгер приводит названия для наименования отрезков времени в казахском языке. Елең-алаң – что-то неопределенное, неясное, предутренние сумерки, перед рассветом, құланиек, құлансәрі – начинает светать, и уже можно различать очертание предметов, таңсәрі – пора, когда на землю падает свет, но солнце еще не взошло, таң – время, когда показывается, встает солнце. Или в ночное время іңір – пора перед наступлением ночи, природа готовится ко сну, қызыл іңір – начало ночи, жарым түн – полночь, таң қараңғысы – густая мгла, пора перед рассветом.
А вот такие глаголы употребляются в казахском языке при смене времен года – қыс келді, көктем туды, жаз шықты, күз түсті. Таким образом, весна не приходит, она рождается, а осень не наступает, а сваливается, обрушивается на голову.
«Истинно казахская речь похожа на причудливые узоры на домотканном ковре. Казах не говорит прямо, плоско, серыми ремарками, однозначно, в лоб, он предпочитает речь эмоционально окрашенную, многослойную, витиеватую. В «Пути Абая» Мухтара Ауэзова читаем: «По старому обычаю аксакалов, отец говорит иносказательно, намеками и кружит над целью своей речи, как ястреб», – объясняет автор эссе.
В октябре Герольду Бельгеру исполнилось бы 85 лет. Сколько еще увлекательного о казахском языке он мог бы написать.