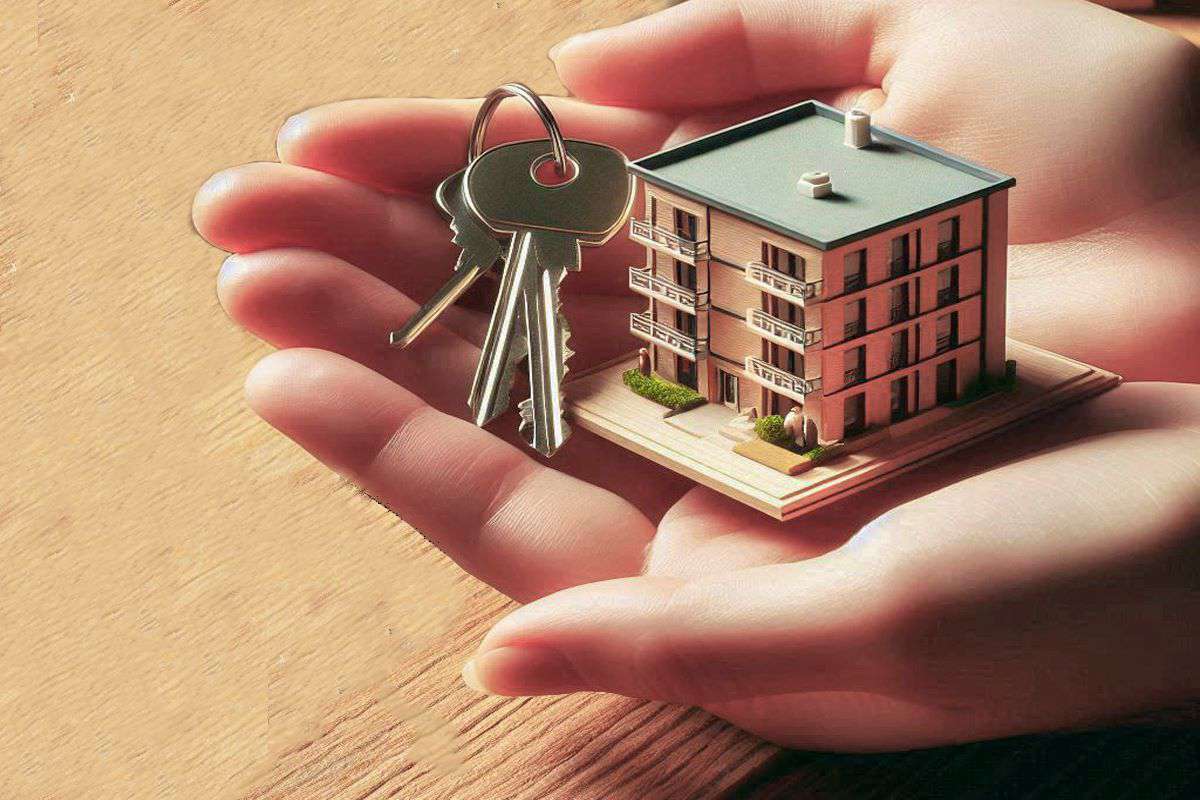Только вперед
Поэтическое творчество Олжаса Сулейменова вывело его в науку, которая, в свою очередь, благодаря серии исследований тогда еще молодого ученого раскрыла глаза мировой общественности на истинную суть глубинной истории Евразии. Наши предки, тюрки и прототюрки, встали в ряд с шумерами, этрусками, эллинами, викингами и другими известными древнейшими цивилизациями человечества. Сейчас легко говорить об этом. Но в период тотальной советской заидеологизированности все было иначе…
Сулейменовский феномен как раз и заключается в том, что невозможность исполнения задуманного или крайняя опасность для собственной жизни в сопряжении с полезностью этого дела для родного народа всегда придавали Олжасу Омаровичу только бóльшую энергию и настойчивость. Он шел напролом до победного конца, невзирая ни на какие обстоятельства. В казахском эпосе встречаются моменты, когда один батыр, не обращая внимания на риски и здравый смысл, один идет в атаку на целую армию противников – и побеждает.
Глядя на нашего Олжеке, я понимаю, что это не всегда литературная гипербола, потому что живой потомок наших предков – вот он, перед нашими глазами. Это Олжас Сулейменов, который по натуре своей является первооткрывателем. Он, как геолог по основной профессии, всегда нащупывает золотую жилу и первый начинает раскопки. Многие на тот момент ему не верят, многие не понимают, ему мешают или противоречат. Ведь то, что видит или ощущает интуитивно Поэт и Ученый в одном лице, знает на тот момент только Бог.
«Улыбка Бога» – так называется один из многочисленных шедевров Олжаса Сулейменова. Наш великий земляк, для кого-то старший брат, для кого-то отец, для кого-то друг, – сам улыбка Бога, божественный подарок человеческому роду.
К сожалению, таких людей бывает очень мало. Однако они есть, и во многом благодаря таким личностям мы медленно, но последовательно продвигаемся в сторону прогресса и самосовершенствования.
Подарок отца
В конце 60-х годов отец подарил мне сборник стихов Олжаса Сулейменова «Глиняная книга». Я учился в Караганде в школе и был уже известен в своих ученических кругах как неплохой рифмоплет, писавший на русском языке. Писал где-то с 3-го класса, ближе к старшим классам запоем читал Ахматову, Мандельштама, Белого, Цветаеву, Вознесенского. Конечно, знал стихи Сулейменова. Но поэма «Глиняная книга» меня потрясла. Это была не просто поэзия, это был мощный зов предков, неистребимое стремление погрузиться в седую старину скифо-сакских, шумеро-аккадских времен, это был крик души, требующей справедливости и грандиозное величие древности, окутанной обаянием сулейменовского поэтического вымысла. Такого раньше в мировой поэзии не было.
После этого я уже не мог писать стихи как раньше. Я завяз в исторической литературе, начал читать или, если быть справедливым, пытался понять, усиленно перечитывая, богатырские сказания на казахском языке: «Қобланды батыр», «Қамбар батыр», «Алпамыс батыр», «Едіге батыр». В Караганде казахских школ тогда, можно сказать, почти не было (интернат для сельских детей не в счет), все учились только в русских. А Сулейменов тянул в родную стихию, его поэзия настойчиво требовала знания родного языка и культуры кочевников, хотя сам, в чем его парадокс, писал на «великом и могучем». Я заблудился в самом себе и сумел выбраться из этого загадочного лабиринта только через несколько лет – в 1975-м, уже окончив школу.
В этот год вышла «Аз и Я», которую мне удалось достать и залпом прочесть. Я был студентом. И только теперь, наконец, отчетливо понял все, что хотел сказать в своей поэме (и сказал!) поэт. Моя курсовая работа называлась «Национальные символы в поэзии Олжаса Сулейменова», а дипломный проект был лаконичен и конкретен: «Образ круга в поэме «Глиняная книга» Олжаса Сулейменова». Научным руководителем был академик Евней Букетов.
Окончив Карагандинский государственный университет, я рванул в Алматы лично к Олжасу Омаровичу, как к своему старому и доброму знакомому, наставнику и учителю, все стихи которого знал наизусть. Это придавало мне уверенности, и я буквально вломился в служебный кабинет Олжаса-аға, который тогда был секретарем Союза писателей, и торжественно вручил ему свою дипломную работу с надписью: «Другу, брату и учителю».
Олжеке воспринял это с улыбкой и, пролистав мою работу, собственноручно написал короткое письмо директору Института языкознания академику Смету Кенесбаеву: «Прошу Вас принять в аспирантуру подателя сего письма Ердена Кажибекова, у которого есть склонность к научной работе. Ваш Олжас Сулейменов». И сказал мне: «Ты должен начать профессиональную карьеру ученого. Нам сейчас нужны тюркологи. Так как я тебя рекомендовал, тебя однозначно не будут любить, имей это в виду. Но и отказать мне они не смогут. Твоя задача – поступить, зацепиться и доказать всем свою правоту…»
В период учебы в аспирантуре я узнал, что Олжеке баллотируется в депутаты Верховного совета СССР от Карагандинской области и на днях должен вылететь в Караганду. Такой момент я упустить не мог. Мне каким-то чудом удалось попасть с Олжасом Омаровичем в один специально выделенный по этому случаю небольшой самолет и вместе с ним вылететь в родной город. Конечно, сопровождение высокого гостя преградило мне путь, но короткая и безапелляционная фраза Олжеке «он со мной», который совсем не удивился, увидев меня, разрешила ситуацию.
Пока в Карагандинском университете проводилась большая встреча с общественностью, я успел сообщить своему отцу, что Олжас Омарович в нашем городе и после обеда будет у нас дома. Помню, в университете было очень много людей. Встречи с Олжасом как всегда проходили с аншлагом. Огромное количество поклонников, милиция, выстроенные в ряд черные легковые машины обкома партии… Я с трудом протиснулся сквозь толпу к Сулейменову: «Олжас-аға, садитесь, пожалуйста, в белую «Волгу» с таким-то номером, за рулем мой родной братишка. Поедем к нам домой. Вас ждут мои родители». И свершилось чудо! Олжеке кивнул и уверенной походкой проследовал в нашу машину.
Дома отец велел отключить телефон, потому что высокого гостя не просто ждали и хотели принять на самом высоком уровне, это было нечто гораздо большее, искреннее и неподдельное желание, идущее от самого сердца, и ничто не должно было мешать. Вручив моей маме огромную охапку подаренных ему цветов, которую мы с братишкой Ерланом с трудом занесли в дом, Олжас Омарович не только прекрасно провел время за трапезой, но и еще сыграл с моим отцом не одну партию в шахматы...
Вот так подарок отца надолго и прочно решил мою судьбу. Судьбу, которую определил Олжас Сулейменов и которой я благодарен.
Под личную ответственность
С конца 70-х годов в Казахстан стал приезжать венгерский ученый-тюрколог, кыпчаковед, сам венгерский кун, т. е. куман-кыпчак по происхождению, Иштван Мандоки Коныр. Я сразу, конечно, познакомил его с Олжасом-аға. Они часто встречались, подолгу и оживленно беседовали в кабинете или в кафе Союза писателей Казахстана на разные темы на… древнетюркском (!) языке. Да-да, именно так! Чтобы неповадно было работникам прослушки, которая тогда работала везде вполне исправно, они говорили между собой не по-казахски и не по-русски, а на древнем орхоно-енисейском языке! Со стороны наблюдать их беседы было страшно интересно и захватывающе.
Прошел год-другой. Коныр исколесил Казахстан вдоль и поперек. Везде венгерский ученый производил на собравшихся неизгладимое впечатление. Он был неординарен и вызывающе интересен. Например, на Кавказе, как вспоминал директор Института тюркологии, доктор филологических наук, специалист по древнетюркским памятникам Сосланбек Байчоров, запланированная на 3 часа встреча с населением в сельском клубе растянулась на... трое суток. Его просто не отпускали от себя истосковавшиеся по настоящему родному слову кумыки, ногайцы, карачаевцы, балкарцы. Ведь с ними Коныр говорил на их родном языке. Так же, как со всеми тюрками – казахами, узбеками, кыргызами, туркменами, крымскими татарами, шорцами, уйгурами, татарами, чувашами, башкирами, якутами, азербайджанцами, добруджа татарами, урумами. Поэтому его боготворил простой люд и почитала элита.
«Казахский язык – один из богатейших тюркских языков, а Казахстан – прародина всех тюрков. Да и не только тюрков. И мы, венгерские куны, и мадьяры-венгры – мы все родом из Казахстана. Наступят времена, и казахский язык станет государственным языком. Это будет подтверждением реального суверенитета республики», – любил повторять Коныр.
Помню, как он обратился ко мне с просьбой: «Нам помог Олжас-аға с проездом по Казахстану, может быть, он сможет помочь с кыргызской проблемой? Ведь кыргызы, как и казахи, – прямые потомки кыпчаков. Но визу мне туда категорически отказываются давать, как быть?»
Конечно, мы тут же рванули к Олжасу Омаровичу. Выслушав нас, он на древнетюркском языке сказал Коныру: «Я посажу тебя в свою служебную машину и просто отправлю на ней в Бишкек. Ее по пути следования никто не посмеет остановить. Все-таки машина депутата СССР. Там тебя встретит мой друг». Он набрал номер Чингиза Айтматова в Бишкеке:
– Чыке, дорогой, как здоровье? Я отправляю к тебе нашего брата и друга из Венгрии. Он говорит по-кыргызски. Нужно, чтобы там не возникло проблем с властями, потому что он выезжает, нарушая все законы и таможенные процедуры, без визы и других разрешений. По-другому не получается. Прикрой там его, возьми под свою опеку. Прими хорошо и потом надежно отправь его назад на моей машине.
Он положил трубку и улыбнулся: «Вперед, Коныр, успехов. Будь осторожен. Надеюсь, что эта твоя первая поездка не станет первой и последней поездкой в Кыргызстан».
Сейчас трудно объективно оценить степень риска, которому подвергал себя в тот момент Олжас Сулейменов. За такой поступок в лучшем случае могли лишить всего и посадить в тюрьму. Но он сделал свой выбор, не задумываясь и не колеблясь.
Буквально через день-два руководство Института языкознания и Академии наук вызвало его на ковер в Центральный комитет Коммунистической партии.
Поездка Коныра в Бишкек не могла остаться незамеченной. Более того, все это вызвало огромный переполох в органах национальной безопасности в Казахстане и Кыргызстане, многие высокопоставленные чиновники получили из Москвы строгие выговоры. Никто не мог ответить на вопрос: как иностранец смог незаметно, минуя все посты, оказаться в другой стране?
Но руководство Академии наук было спасено тем обстоятельством, что инициатива и вся ответственность за это мероприятие принадлежали двум великим писателям – Олжасу Сулейменову и Чингизу Айтматову. А с ними пытаться бороться было бесполезно. Их авторитет и слава давно перешагнули пределы тогдашнего СССР и обрели мировое звучание.
Можно много вспоминать большие и героические поступки, которые совершал в своей жизни Олжас Сулейменов, но закончить этот перечень не получится никогда. Потому что он это делал и продолжает делать на каждом шагу, при каждом удобном и неудобном случае. Это и закрытие в свое время атомных полигонов в мире; это и «Аз и Я», пробудившая национальное сознание не только тюрков, но и славян; это и «Язык письма» и другие компаративистические труды, ставшие классикой сравнительно-исторического языкознания современности; это и целый комплекс масштабных мероприятий по реконструкции древнейшей истории человечества, демонстрирующей родство и близость народов и культур.
Феномен Сулейменова по праву занимает почетное место в сокровищнице мировой культуры.